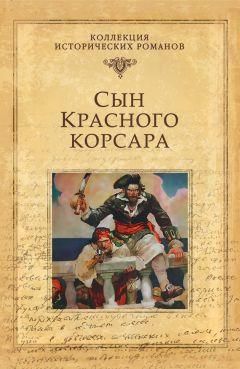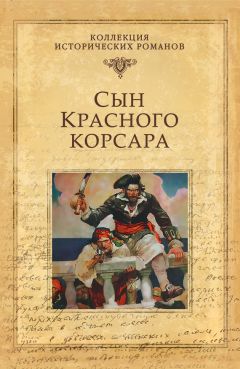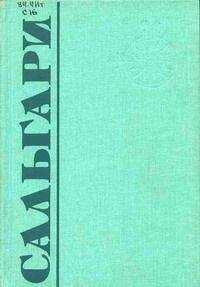А. Сахаров (редактор) - Александр I
– Ну давайте овсянку кончать, а то ни за что не уйдёт, – оглянулась Софья на Прокофьевну. – Одним духом. Девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая… Уф! Уберите скорей эту гадость. Ну, няня, видишь, – кончила. Не сердись же, не плачь, глупенькая! Мне лучше. Ну, право, совсем хорошо. Ступай с Богом. Князь почитает, а я отдохну…
Голицын начал читать «Светлану» Жуковского.
– Нет, не надо, не надо, лучше другое! – остановила Софья. – Помнишь, в Покровском у пруда за теплицами?
Где, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб, жених – мертвец.
Помнишь, как я тогда испугалась, а ты меня утешал:
О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!
А вот узнала-таки!.. О, какие страшные, страшные сны, Валенька! Как давно, Господи! Какие мы старые, древние! Кажется, не семнадцать, а семьдесят лет… Душно здесь, лекарствами пахнет; пойдём на балкон.
Он поднял её на руки. Каждый раз, как подымал, – чувствовал, что всё легче и легче ноша, как будто она в руках его таяла. Перенёс на балкон и усадил в кресло. Луч солнца скользнул по золотистой пряди волос и бессильно повисшей руке; ещё бледнее бледная рука, ещё голубее голубые жилки на солнце.
Софья прижалась лицом к лицу его и болезненно щурила глаза от света.
– Как хорошо! Какое море! Какие паруса! Куда они плывут? Может быть, далеко-далеко. А когда доплывут…
«Когда доплывут, меня уже не будет», – угадал он, как угадывал все её мысли.
– Душа бессмертна, говорят… Ты веришь?
– Верю.
– А я не знаю… Если только душа – зачем?.. Я хочу, чтобы и там всё, всё как здесь… Чтобы так же, как вот сейчас, разрытою землёю от цветочных грядок пахло и берёзовыми почками. Вон комар жужжит. Пусть и комар тоже. Паучок, видишь, ползёт, маленький, красненький. Пусть и он. И бородавку над губой у няни тоже хочу. Всё как здесь…
– И меня в очках?
– Нет, очков не надо. Ведь я их не люблю. И морщинки, которая смеётся, не надо. Да где она? Пропала? Нет, вот… Только другая стала, – бедная. Ну, такую ничего, пожалуй, – можно. Всё, что люблю, пусть и там, как здесь… А если только душа, то не надо, ничего не надо. Смерть так смерть. Один конец… Ну, устала я что-то. Холодно. Пойдём.
Он перенёс её в комнату и опять усадил в кресло; укутал потеплее, потому что начинался озноб; обложил подушками; думал – задремлет, хотел отойти, но она подозвала его.
– А что у вас? Как дела? Давно не рассказывал…
Он понял, что она спрашивает о тайном обществе. Знала о нём; он долго не хотел рассказывать, – боялся, как бы не проговорилась государю, не выдала нечаянно; но, наконец, рассказал, только не называл никого по имени. Не мог скрыть: она всё о нём знала, как и он о ней, вещим знанием. И потом, здесь, в комнате больной, может быть, умирающей, тайное общество, революция, республика казались ему игрушками, которыми он тешил её, как больное дитя. Но иногда чувствовал с ужасом, что она понимает больше, чем он говорит, и что игрушки эти опасные: не одна ли из них – тот острый нож, которым он ранил её до смерти?
Так и теперь начал рассказывать что-то, думая только об одном: как бы развлечь и не ранить – подальше спрятать нож.
– Зачем не говоришь всего? – вдруг остановила она и заглянула ему в глаза пристально. – У тебя революция точно детская сказочка: Серый Волк – тиран, а свобода – Красная Шапочка. Но ведь это не так. Не так было – не так будет. Я же знаю…
О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары;
Падут бесславные удары –
Погиб увенчанный злодей!
Вот как, а не Красная Шапочка… Ты эти стихи знаешь?
– Знаю. А ты откуда? Кто тебе дал?
– Дядя, Дмитрий Львович. Добренький он. Всё, что хочу, с ним делаю. Вот и дал, только велел никому не показывать, а то ему достанется… Это об убийстве императора Павла Первого. И няня тоже рассказывала…
Помолчала и вдруг шепнула ему на ухо:
– А как ты думаешь, он знал?
Опять заглянула ему в лицо ещё пристальней.
Голицын понял: спрашивала, знал ли государь-наследник Александр Павлович о том, что заговорщики хотят убить отца его, императора Павла I.
– Что же ты молчишь? Говори…
– Не надо, Софья! Зачем? Кто может судить, кроме Бога?
– Нет, надо. Я хочу знать всё, что ты думаешь. Говори же, только не скрывай, не обманывай. Знал ли он?
– Я думаю, всего не знал, – ответил он чрез силу.
– А если бы знал, – продолжала она, – если бы знал, то всё-таки… Ведь нельзя иначе? Ведь император Павел злодеем был, извергом?
– Какой изверг! Просто больной, несчастный…
– Всё равно – сумасшедший.
Ты – ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.
Пятьдесят миллионов людей в руках сумасшедшего – разве можно это терпеть? Надо было убить. Никто не виноват, никто не может судить, кроме Бога. Сам Бог устроил так, что убивать надо. Умирать и убивать. Уж лучше бы не было Бога!.. И ты, и ты убил бы, если бы надо?.. Молчишь? Не хочешь сказать? Ну, всё равно, я знаю, что ты думаешь…
И вдруг опять зашептала ему на ухо:
– Намедни-то что мне приснилось. Будто входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадёшься. А я думаю: что, если мёртв? Живых убивать можно, но как же мёртвого? Крикнуть хочу, а голоса нет; только не пускаю тебя, держу за руку А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал… Тут мы и увидели, кто это… Знаешь кто? Знаешь кто?.. – повторяла она задыхающимся шёпотом, и он слышал, как зубы у неё стучат. – Ох, Валенька, Валенька, знаешь кто?
Он знал: её отец!
– Не надо, Софья, не надо! – сказал он, закрывая лицо руками. – Ведь это только сон, дурной сон от болезни. Пройдёт болезнь – и не будет страшных снов…
– Опять лжёшь? Опять скрываешь? Не говоришь всего? Я хочу знать всё, слышишь, всё! Я же понимаю, что от крови – Шапочка Красная. Знаешь, от чьей? Думал ты о крови, когда шёл к ним? Можно ли идти на кровь во имя Господа?.. Что вы всё о крови думаете? Что? Говори…
– Не надо! Не надо! – повторял он одно только слово, ломая руки в отчаянье.
– Убивать надо, а говорить не надо?.. Нет, говори! Я больше не могу, не хочу! Говори же, не лги! Я знаю всё, не обманешь! – проговорила она и отняла руки насильно от лица его, посмотрела на него в упор – в этом взгляде был острый нож, ранящий до смерти. – Говори: его убить хотите?
– Что ты делаешь, Софья…
– Что делаю? Иглу раскалённую втыкаю в тебя – острый нож в живого, а не в мёртвого. Что, больно? Ну ничего, потерпи, не мне же одной от боли корчиться…
Злоба засверкала в глазах её, и от этой злобы стало ему ещё жальче.
– Не со мною, а с собою что делаешь, Господи! Ну зачем?
– Нет, не я, а ты, что ты со мной сделал?.. Ничего я не знала, была глупая девочка, ребёнок; спокойна, счастлива. Ты пришёл и разрушил всё, возмутил, соблазнил… Помнишь, на концерте Вьельгорского? От этого я и больна, умираю. Ведь об этом сказано: лучше бы мельничный жёрнов на шею… Я же тебя не спрашивала. Начал – так и кончай… И чего теперь испугался? Что донесу, что ли? А может, и донесу… Знаю всё, не обманешь, знаю, чего вы хотите… И за что? Что он вам сделал? Как у вас рука на него подымется? И у тебя, Валенька родненький, любимый мой, единственный! На него, на отца моего! Уж лучше бы ты меня!..
Он встал с мёртвенно-бледным, но как будто спокойным лицом.
– Бог тебе судья, Софья! Думай, как хочешь: злодеи, убийцы, изверги… А может быть, глупые дети, – я ведь иногда и сам думаю: ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят. А всё-таки правда Божья у них. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, не вынесу, а уйти от них не могу, даже если тебя, Софья…
Голос его оборвался, лицо исказилось, и, закрыв его руками, он только повторял сквозь рыдания:
– Не уйду, не уйду! И если тебя потеряю, от них не уйду!
– Да кто тебя держит? – усмехнулась она с тою же злобою, как давеча. – Ступай к ним! Ступай! Ступай!
Упала навзничь на подушки и вся затрепетала, забилась, как раненая птица, сначала в неистовых рыданиях, потом в раздирающем кашле. Ему казалось, что она задохнётся, умрёт сейчас на его руках.
Наконец кашель затих; но долго ещё лежала с лицом белее белых подушек и с закрытыми глазами, как мёртвая. Он думал, не позвать ли на помощь. Но пошевелилась, открыла глаза.
– Ты здесь? Не ушёл! Ничего, не бойся, прошло. Дай воды… Как руки у тебя дрожат! Не бойся же, мне хорошо. Только не уходи, побудь со мною…
Вдруг наклонилась и стала целовать руки его; плакала, но лицо было ясное, тихое; тихая, ясная улыбка.
– Прости меня, Валя, голубчик! Это в последний раз, больше не будет. Только прости, не уходи, не покидай меня, я без тебя не могу…