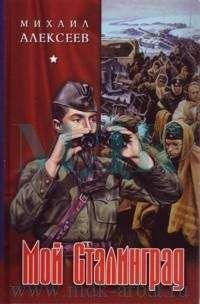Валерий Кормилицын - Держава (том второй)
— Именно. Без такта немыслим не только молодой человек, но и дама, — поднял вверх указательный палец в замшевой перчатке. — К числу бестактных, — менторским тоном продолжил он, — а следовательно, неприличных предметов разговора, должно причислить и расспросы о взаимоотношении воспитательницы и воспитуемого… Особенно, интимная их сторона… Например, как отреагировал вьюнош, увидя в неглиже суровую…
— …И как? — взвилась Ольга, не дав ему закончить фразу.
— Испугался! — перекрестился он. — Так всё неожиданно и странно… Ещё долго по ночам ужасы снились…
— Как она приходит в комнату и целует вас, — с ревнивыми нотками в голосе закруглила фразу, а в глазах её весело целовались чёртики.
В эту ночь мадам Камилла не сумела за ними уследить… И до самого утра Аким обнимал голубоглазую даму, о которой мечтал в юности, а она щедро дарила ему удовольствие…
Но того полёта, о котором слагают стихи поэты, он не испытал…
— А ведь сегодня Сочельник, — утомлённо поцеловав утром любимого, стала она одеваться.
— Верно. Все дни перепутал… Ну что ж, стану сегодня предаваться, как учат священники, глубоким размышлениям о смысле жизни.
— Аким, ну о каком смысле ты говоришь? — капризно фыркнула Ольга.
«Будто прилипшую вуаль сдула», — определил её гримаску Аким.
— Ну, каяться надо, что всю ночь грешили…
— Чего покраснел–то? Смех с трудом сдерживаешь? У нас элементарной ёлки нет. Вот в чём кайся…
— Каюсь! — мигом выпрыгнул из постели и быстро стал одеваться. — Сейчас позавтракаем и в лес по дрова.
— До первой звезды нельзя!
— Чего нельзя? Ах, да! Нянюшка строго за традициями следит.
— Тем более, с Марфой сдружилась, — хихикнула Ольга. — Теперь заговор составят.
— Аполлон! — высунувшись из двери, заорал Рубанов.
И на далёкое с первого этажа: «Чего изволите-с?», распорядился:
— Скажи Ефиму — сани запрягать.
— Чичас исполни–и–и-м, — заверещало снизу, что сразу прибавило молодым хорошего настроения.
Пустым чаем их всё–таки угостили.
Аким сам управлял лёгкими санями, укрыв ноги девушки натуральной медвежьей полостью.
За ними, мучаясь и икая с похмелья: грехи наши тяжкие, плелись широкие сани с Ефимом.
Растревожив рубановских собак звоном колокольчиков, а народ — разбойничьим гиканьем, Аким, погоняя картинно изогнувших шеи лошадей, мчался к лесу.
— Аки–и–и-м, потише, перевернёмся-я, — завизжала Ольга, когда на повороте сани перекосились, а через минуту и вовсе опрокинулись, выбросив ездоков в огромный придорожный сугроб.
— Не ушиблась? — испугался Рубанов, ничего не видя под снегом, но ощущая на себе тяжесть женского тела.
Затем услышал смех и почувствовал, как руки нежно стирают с щёк снег, и тут же тёплые, душистые губы приникли к его губам.
— До первой звезды нельзя, — едва успел прошептать он, как рот запечатали поцелуем.
— Ах–ти, Осподи… Ох, бяда–бяда, огорчение.., — частил где–то над ними надтреснутый, не очень соболезнующий голос.
— Оказать помощь не очень–то и спешит, — с трудом, и почему–то с неохотой, выбрался из уютного сугроба Аким, вытягивая следом смеющуюся даму. — Ах–ти, ох–ти, — передразнил даже не подумавшего слезть с саней Ефима. — Помощь пострадавшим оказать — дураков нет, — напрягся, пытаясь поставить на полозья лежащие на боку сани, но у него ничего не вышло. — Сударь «ах–ти, ох–ти» или мсье Ефим, будьте добры оторвать свой драгоценный зад, извиняюсь, — улыбнулся Ольге, — и извольте помочь поставить на полозья… — договорить не успел, ибо «мсье Ефим» огрел длинным кнутом фыркающих и зло косящих глазами коней, и те, захрапев, дёрнулись, сдвинули с места сани и, через несколько саженей, они сами стали на полозья.
— Тпру-у, куды прётя, ироды хвостатые, — осудил животных Ефим. — Просю-ю, — культурно обратился к господам, рассмешив их просто до колик.
— Ну, вот как с таким народом о душе подумать? Грех один, — углубились в лес и остановились у огромной ели.
— Какая красота, — спрятала замёрзшие руки в муфту Ольга и первая выбралась из саней, тут же, со смехом и визгом, провалившись по колено в снег.
Ефим, добравшись до ели, для чего–то со всего размаху бухнул по стволу обухом топора, обрушив на себя, но в основном на подошедшего к нему барина, приличных размеров сугроб лёгкого, чистого, пушистого снега.
Когда, отряхивая бекешу, Рубанов выбрался на свободу, на круглой меховой его шапке лежала здоровенная, ноздреватая, коричневая шишка, приведшая Ольгу в восторженное состояние… Рождество ведь скоро… Не имея от смеха сил стоять на ногах, она, прижимая к лицу муфту, рухнула в снег.
Аким бросился поднимать даму и, застряв, тоже рухнул рядом с ней, уронив с головы злосчастное рождественское украшение.
Немного успокоившись, Ольга, с помощью кавалера поднялась на ноги, промокнула заснеженной муфтой глаза и нежно поцеловала мужчину.
— Неприлично об этом говорить, но я люблю тебя, — стала она серьёзна. — Ступайте, сударь, рубить ёлку, — грустно улыбнулась, отметив, что на её признание он промолчал. — Да не разбудите родственника той полости, коей укрывали мне ноги.
Когда ехали обратно, она отчуждённо глядела на дорогу, думая, что любит он Натали, хотя время проводит с ней.
Наряжая ёлку конфетами на ниточках, она мысленно махнула рукой — будь что будет: «А в 12 ночи наступит Рождество, и обнимать его стану я, а не Натали…».
Когда наблюдательный Аполлон узрел на небе звезду, все дружно и не чинясь уселись за стол в жарко натопленной гостиной, и отведали приготовленное Марфой сочиво из риса с мёдом и изюмом. Затем поели постных щей, полакомились вкусно пожаренной рыбой, и, на десерт — варениками.
— До 12 ночи — пост! — перекрестилась на икону Марфа.
— А сейчас едем в церковь, — распорядилась старая няня, тяжело поднявшись со стула. — Я вот узел с пирожками и всякой снедью навернула. Батюшке оставим. Пусть раздаст на праздник.
На этот раз Аким правил осторожно и ехали не спеша.
Зато Ефим так и норовил с рождественским ветерком прокатить своих пассажиров: двух старух и Аполлона с супружницей.
Несмотря на строгости поста, они брали грех на душу и злословили в его сторону, возводя, ясен конь, несусветную напраслину… Будто он, окромя компота с киселём, раньше времени приложился «к чему неследоват».
«Как так неследоват? — порывался превысить скорость. — Вифлеемская звезда–то — вона. Вовсю сверкает на небеси», — настропалился от душевной обиды взмахнуть кнутом, но был вовремя обезоружен кухаркой Марфой и Аполлоном.
В церкви, кроме батюшки, никого не было.
Помолившись, Аким поклонился своим предкам, благо, прибыл в полной военной форме и при орденах — пусть дед с прадедом увидят, что он тоже настоящий Рубанов.
Приехав домой, все вместе сели праздновать.
Няня попросила Аполлона поставить посреди стола жирандоль и зажгла свечи.
— Свет Христа, — со счастливой улыбкой произнесла она, радуясь, что дожила ещё до одного Рождества, и Бог сподобил увидеть «внучека».
— А что это под скатертью? — пошелестел чем–то офицер.
— Велела Ефимке сена принести, — подкладывала кухарка лучшие кусочки безногому солдату, который оставался дома и в церковь с ними не ездил. — Это напоминание о яслях, где лежал Христос. Аполлон, неси запечённого поросёнка, — распорядилась она, крепко взяв власть в свои «мозолистые» руки, и отодвинув мадам Камиллу на второй план.
А ещё она приготовила гуся с яблоками, напекла пирожков, и это не считая закусок: колбас, сыра и прочего…
— Нашему повару, Герасиму Васильевичу, за тобой Марфушка, не угнаться, — польстил пожилой женщине Аким, услышав, как во двор въехали несколько саней, и через минуту у парадного входа раздался хохот, громкий говор, звуки гармошки и песня.
— Сегодня у нас сплошная демократия, о чём всю жизнь лицемерно мечтает мой дядюшка, прости Господи, — перекрестился в сторону иконостаса Аким, разглядывая вбежавшую толпу рубановских крестьян во главе с кузнецом.
Мадам Камилла и Аполлон, на всякий случай, отошли от них подальше, а Ефим, обнявшись для начала с рыболовом Афоней, влился в весёлую и довольно–таки пьяную компанию.
Сбросив на пол нагольный полушубок, кузнец начал размахивать молотом и орать, что сможет любого деда или бабку перековать, сделав моложе.
Марфа с няней, отойдя к стене, улыбались, а крестьянская молодёжь со смехом кричала, что этого не может быть, потому что так не бывает…
— Ну тады я вам докажу, Фомам неверующим, — рычал кузнец. — Видите этого замшелого пня? — указывал на сына Гришки–косого, наряженного дедом, с клюкой и накладной бородой. — Сейчас я его перекую… Лезь под стол, старче, — указал молотом на накрытый скатертью, и уставленный закусками стол, за которым остался сидеть лишь безногий солдат Веригин.
С кряхтеньем «старичок» забрался куда сказано, и чем–то там зашебуршал, пока кузнец с прибаутками размахивал молотом.