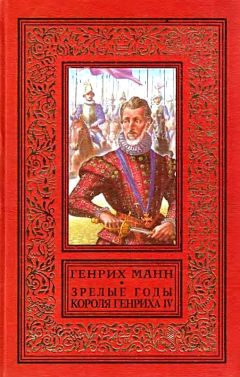Генрих Манн - Зрелые годы короля Генриха IV
Совесть успокоилась — до некоторой степени. Однако перед своей остроносой супругой Рони отнюдь не похвалялся добрым поступком в отношении Габриели д’Эстре. Нос был достаточно острый и длинный, чтобы добраться до оборотной стороны доброго поступка. Пожилая вдова ждала слишком долго; и теперь торжествует победу всецело, без излишней щепетильности.
Герцогиня де Бофор поехала к мадам де Сюлли, та не приняла ее. По этому поводу герцогиня обратилась с вежливой жалобой к господину де Сюлли, тот не ответил ей. Король возмутился бы поведением обоих, если бы узнал о нем. Он, без сомнения, принял бы обиду на свой счет. Однако Габриель не стала говорить с ним. У нее на руках было довольно улик, чтобы одним ударом поразить верного слугу. Но она боялась ответного удара — не от Рони, а скорее от перемены в душе ее возлюбленного повелителя; она была научена горьким опытом.
Самым сокровенным чувством ее был страх, который никогда не покидал ее вполне. Король казался прежним, он был бы преданней прежнего, если бы она проявила больше настойчивости. Он клял свой двор и остальные дворы, сеть хитросплетений, которой его опутали, свою неволю, всеобщий заговор, имевший целью умалить его победу над Испанией и обезвредить его самого. Габриель понимала и слышала то, о чем он умалчивал: «Прости мне, мое бесценное сокровище». Потому-то она никогда не переводила разговор на себя. Она не решилась бы на это без дрожи, ибо после сцены с Рони тело ее не могло отвыкнуть от дрожи, несмотря на все усилия воли. Только бы не обнаружить свой страх — вот чего она теперь страшилась сильнее всего.
Доверчивее, чем когда-либо, рассказывал ей Генрих о своих личных переговорах с папой Климентом относительно расторжения своего брака с королевой Наваррской. Истинное положение вещей неизвестно даже его Министрам. Взамен папа требует, чтобы он вернул изгнанных иезуитов. Король отвечал так: будь у него две жизни, одну он отдал бы его святейшеству. Она поняла: у него лишь одна жизнь, и у меня также. Стоит ему поступить, как желательно нам обоим, тогда он обречен. Сделать меня своей королевой и за то пойти на мировую с иезуитами — это все равно что решить обоим вместе умереть на престоле. Потому он и молит: прости мне. Однако она делала вид, будто речь идет лишь о благе королевства.
Король приказал устроить охоту в честь герцогини де Бофор — а не прошло и четырех дней после того, как он произнес жестокие слова, в которых не переставал каяться и от которых она до сих пор дрожала. На эту охоту он взял с собой лишь ее друзей и, главное, тех, кто стал ей другом, вроде Роклора. Все они были солдатами, а из них надежней всех — самые простодушные, храбрый Крийон, одноглазый Арамбюр. Своей рукой выбили они когда-то из седла убийцу короля, ему же самому сказали:
— Сир! Женитесь на своей возлюбленной. — С ними и осенний день станет ясней любого другого. Скачешь на просторе, и все как будто знакомо: копыта наших коней перепахали это поле, когда мы давали здесь бой. Лес необозрим, лес до самой границы Пикардии — солнце щедро озаряет его сквозь безлиственную чащу ветвей, мы же узнали бы все пути и перепутья даже в глубокой тьме.
— Помнишь, Блеклый Лист? — сказал Генрих своему обер-шталмейстеру Бельгарду и склонился к своей возлюбленной, ибо ее конь шел между их конями. — Как темно было здесь, когда мы в первый раз возвращались из замка Кэвр. До того темно, что ты помышлял убить меня, Блеклый Лист. Неплохая затея для ревнивца. Мне самому она приходила в голову позднее, должен тебе сознаться в этом, старый друг Блеклый Лист. Мадам, взгляните на него, теперь и он уже седеет.
Нет, она не хотела думать ни о седобородом, ни о том другом, с седеющими висками. Она лелеяла в душе своей радость от сознания, что ее возлюбленный повелитель сохранил молодое чувство к ней, да, к ней, и голос его звучал счастливо, хоть и взволнованно: былая мука оттого, что он мог утратить или вовсе не добиться ее, миновавшая мука возвращается вновь и трепещет в его голосе.
— О прекрасная жизнь! — сказала Габриель. — Как я люблю тебя!
Странно, но вместо ускоренной рыси, которая должна бы последовать за этим, все трое пустили своих коней шагом. Потому сопутствующие кавалеры приблизились, и послышались их голоса.
— Я постоянно говорил ему, — послышался голос. — Рубить сплеча. Воззвать к народу, как во всех его деяниях. Священника сюда и, хочешь не хочешь, а у нас будет королева-француженка. Дальше же посмотрим.
Это был храбрый Крийон. Одноглазый Арамбюр заговорил гневно:
— Чего мы добились теперь? Что монахи опять громят его в проповедях. Предрекают ему возмездие за грехи. Призывают ко всеобщему покаянию, дабы небо не обрушилось на это королевство. Со времен мира Испании снова дозволено вытряхивать на нас содержимое своих монастырей. Капуцины заявились сюда с терновыми венцами на плешивых головах, а впереди — дамы семейства Гиз. Могли мы еще недавно ждать чего-нибудь подобного? И от кого?
— Одноглазый! — крикнул Генрих через плечо. — Они опять изгоняют бесов из одержимых. Я же предпочитаю, как и раньше, посылать врача. Мой обычай не меняется, ты не дождешься, чтобы я уступил.
— А предзнаменования, — сказал кто-то. — Ваши враги, сир, занимаются подделкой предзнаменований. Раз уж очередь дошла до них, берегитесь!
Это Генрих оставил без ответа, ибо он знал: бывают предзнаменования, которых не подделаешь. Наша задача избегать того, что они возвещают. Между тем он узнал просеку, на которую они свернули, он пожелал здесь спешиться и закусить. Слуги устроили на пнях стол и положили вокруг спиленные стволы. Только один они сделали со спинкой и устлали попонами; туда усадил Генрих прелестную Габриель.
Платье на ней было зеленое с серебряным позументом и такая же шляпа. Остывшее солнце не зажигало ее волос ярким блеском праздничных времен, когда алмазы сверкали в них. Ни к чему. Тихое сияние, окутывающее существо, которое еще с нами, но готово покинуть нас, медленно, но верно проникает в сердца. Генрих поглаживал кончики ее пальцев, прислуживая ей. Щеки ее — снег перед тем, как растаять, и розы расцветают под ним. О прекрасная жизнь! Как я люблю тебя! Эти слова она сказала давно, только ее возлюбленный повелитель все еще полностью не уловил их тона. Он вслушивался и сидел задумчиво, к концу завтрака разговоры смолкли.
Подавая ей руку, чтобы помочь подняться, Генрих сказал Габриели:
— Открою вам тайну, мадам: с этого места мы тронулись в путь, я и Блеклый Лист, к замку Кэвр, и там я увидел вас спускающейся по лестнице.
Герцог де Бельгард стоял всех ближе к королю и его возлюбленной; казалось, будто он здесь третий.
Затем было решено всерьез поохотиться за дичью; кавалеры и их единственная дама углубились в чащу, а тут легко потерять друг друга, разминуться, и голос, отвечающий на оклики, слабеет, под конец он доносится отовсюду и ниоткуда. Герцогиня де Бофор исчезла, хотя Генрих старался не упускать ее из виду. Обер-шталмейстер побежал куда-то будто наугад и тоже исчез. Король приказал своим спутникам обыскать лес. Сам он сел на коня; как он и ожидал, двух лошадей недоставало.
Сперва он поскакал напролом, через засеки, рвы и овраги. Внезапно ему вспомнился господин де Рони. «Тот сомневается, что Цезарь мой сын. Если бы я допросил его, он стал бы отрицать, а может быть, и нет, он под конец всегда оказывается прав, так было всего четыре дня назад». Генрих рванул поводья и остановился. В нем кипел гнев против Рони, который под конец оказывается прав, — от злобы всадник готов был повернуть назад. Ничего не желал знать, но разыгрывать глупца он тоже не желал. Так он долго стоял на месте, конь его бил копытом и ржал; перед ним предстал замок Кэвр, который на самом деле был еще вне поля зрения. Помимо его воли и даже несмотря на мучительное внутреннее сопротивление, взгляд его проник сквозь стены в знакомый покой.
Но после того как он уже заглянул туда, ему захотелось видеть все воочию и тем усугубить муку, он страстно пожелал присутствовать при том, как те двое будут лежать на кровати. Сам бы он лежал под ней, как некогда тот, другой. «И я еще швырял ему туда конфеты. Целых семь лет не переставали они смеяться надо мной. Неужто я, я сам позволял всему миру злословить о короле-рогоносце? Почему я прикидывался глухим?»
— Потому что это неправда! — крикнул он и поскакал вперед; ему вдруг стало ясно, что он найдет замок пустым. «Семь лет владею я ею, как ничем на свете. Наша плоть и кровь — дети, сотворенные из нашей плоти и крови, и одно сердце бьется в каждом из нас. Она чувствует то, что я не высказываю, я же знаю о ней все».
Он поклялся, что, если найдет замок пустым, завтра же заставит священника обвенчать его и Габриель. Кое-кто останется ни при чем — владелец замка Сюлли, мой начальник артиллерии. Не додумав этой мысли, он испугался испытания, в замке Кэвр его подстерегал рок, — кому охота добровольно идти навстречу року. Он повернул назад. Тщетно. По-прежнему нестерпимо — не знать, и разум все равно подчинится страсти, ее самовластным заключениям, ее страхам. Тогда он повернул снова. Хотел наверстать упущенное время, боялся наверстать его и скакал то быстрее, то медленнее в зависимости от смены страха и желания.