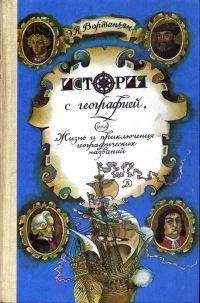Юрий Герман - Россия молодая. Книга вторая
— Ты сыну своему названному, Данилыч, золотишка на обзаведение дал, али запамятовал? Дай уж сейчас, за хлопотами еще позабудешь?
И протянул ладонь.
Александр Данилыч развязал кошелек, высыпал на руку царя пригоршню червонных. Петр подождал еще, смеясь попросил:
— Не мало? Ты не жалей, господин поручик…
Калмыков деньги принял спокойно, завязал в платок, поклонился царю. Тот его обнял за плечо, стал выспрашивать шепотом, как все было на фрегате. Лука Александрович похвалил Памбурга — что, и контуженный тяжко, не хотел покинуть шканцы, — команду, ходкость судна. Царь кивнул, опять пошел к своей конторке — писать. Все шумнее, все веселее делалось в шатре, более других шумел Меншиков, рассказывал, как давеча генерал Кронгиорт задумал подать сикурс осажденным и что из этого вышло. Его перебивали, он орал все громче, что-де без Меншикова ушел бы комендант Ерик Шлиппенбах, он — Меншиков — того Ерика приметил и не дал ему бежать, пугнул, замахнувшись, едва не проколол шпагою, да сорвалась рука, а то быть бы старикашке на том свете. Шереметев слушал, вздыхая; Аникита Иванович Репнин слушал радостно, с сияющими глазами: он любил вранье Меншикова, как любил сказки, песни про богатырей, не думая — правда оно или выдумка.
— Ври, ври больше! — тоже слушая Данилыча и проглядывая почту, сказал Петр. — Ерик! Ты возле сего Ерика и близко не был. Мы-то видели…
Он отложил прочитанные письма послов из разных государств и стал писать Виниусу: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен…»
— «Ври»! — издали обиженно сказал Меншиков. — Разве ж тебе, господин бомбардир, отсюда все видно было? Да и трубу ты, государь, попортил, как в Соловецкой обители по голове некую персону огрел. Сия труба нынче ненадежна, в нее не все видно…
— Что надобно, то видно! — ответил Петр. — Да и твои хитрости без трубы зело заметны. Как давеча с купцами любезничал… Некая персона…
Он покрутил головою, захохотал, подозвал к себе Сильвестра Петровича. Иевлев подошел с куском ветчины, — с начала баталии крошки еще не было во рту.
Петр спросил:
— Вышли шведы?
— Сбираются. Многие, великий шхипер, от ран ослабели, иные от голоду. Мертвых своих не имеют сил похоронить достойно…
Петр кивнул, задумался на мгновение, покусывая кончик пера, потом сказал негромко, словно стесняясь своих слов:
— Помощь надобно им подать, дабы голодные накормлены были, жаждущие напоены. Давеча не велел я жен ихних отпускать, просил парламентер ихний, — да ведь как сделаешь?
И, подумав, нахмурившись, он повторил давешнюю фразу:
— Я своим не вотчим, Сильвестр.
Иевлев промолчал.
— С политесом теперь выпустить жен надо, как-никак свое отмучились. Чтобы галант был, невместно иначе…
Сильвестр Петрович поклонился.
— Иди, работай! Бабам шведским вина вели дать ренского али венгерского, оно и подешевле станется. Сам думай, как делать, чтобы и с политесом и не больно сладко. Не то возомнят. Да возвращайся сюда же, отдохнем малость от трудов марсовых. Вели водку солдатам да матросам выкатывать, как-никак заслужили, пусть гуляют вволюшку…
Иевлев вышел, спустился по отлогому берегу к самой воде. Здесь, сидя на раскладном стуле, уже дожидался комендант Нотебурга Шлиппенбах; сверкая ненавидящими глазами, держал шлем на коленях, барабанил по пластинам пальцами. Ладожский ветер шевелил его седые с прозеленью волосы, раздувал длинную бороду.
— Господин Шлиппенбах не может встать по причине ранения в ногу, — сказал швед переводчик. — Господин Шлиппенбах принужден слушать аккордные пункты сидя.
Секретарь Шафиров и поручик Жерлов поняли, принесли Иевлеву скамейку, дабы мог он читать тоже сидя. Сильвестр Петрович развернул на ветру бумагу, кашлянул, стал читать аккордные пункты, написанные Шереметевым с поправками Петра:
— Весь гарнизон с больными и ранеными, со всеми принадлежащими ему вещами отпущен будет в Канцы водою или сухим путем с провожатыми. Коменданту Нотебурга, всем офицерам и солдатам дозволяется выступить с женами и детьми из трех проломов свободно и безопасно, с распущенными знаменами, с музыкою, с четырьмя железными пушками, в полном вооружении, с потребным количеством пороху и с пулями за щекой…
Шлиппенбах выслушал перевод, ему подали перо, он подписал бумагу выше Шереметева, хромая пошел к лодке. Рябов сзади дотронулся до локтя Иевлева:
— По-здорову ли, господин контр-адмирал?
— Живем помаленьку, Иван Савватеевич…
— А народу побито порядком! — молвил лоцман. — До шести сотен. Могилу копают братскую… Сухарика дать?
Он разломил пополам огромный ржаной сухарь с торчащими остьями, аппетитно откусил от своей половины. Иевлев тоже стал жевать, отдавая приказания, как вести шведам в крепость харчи.
— Еще кормить их, клятых! — сказал Рябов.
— Надо! — ответил Иевлев.
В полках под соснами ударили в барабаны — к водке. Возле распиленных пополам бочек стояли старшины — вина в этот день не жалели никому. Из царского шатра доносились веселые клики, на лужку, перед государевым знаменем, играли рожечники. Александр Данилович в своей яркой, цвета пламени, рубашке выскочил козырем вперед, прошелся ловким плясом. Гвардейцы проводили бомбардирского поручика одобрительным хохотом, веселыми возгласами:
— Славно!
— Сей — могет!
— Делай, Данилыч!
— Жги, господин поручик! Рви!
За Меншиковым — белый от выпитого вина, с остановившимся взглядом и встрепанными волосами — появился купец-самосожженец, пошел с перебором, молодецкой выходкой. Александр Данилыч сунул пальцы в рот, засвистал лесным лешим, завился перед купцом, пошел кружиться, манить пальчиками, визжать на разные голоса. За ними двоими плавно, ровными стопами, с улыбкой появился Аникита Иванович Репнин, под ноги пляшущим кинулись плясуны-гвардейцы, завертелись волчками под быстрые переборы рожечной музыки:
Тары-бары-растабары,
Серы волки выходили,
Белы снеги выпадали…
— Чаще, рожечники! — молил Меншиков. — Чаще, други!
Самосожженец, перебирая на месте козловыми сапожками, визжал:
— Утешь, Данилыч! Еще утешь! По смерть не забуду! Утешь, сокол!
А в царевом шатре кричали «виват» фельдмаршалу Шереметеву, бомбардирскому капитану Петру Михайлову, Репнину, Памбургу, Варлану…
В сумерки Сильвестр Петрович отдал приказ выпускать шведов. В крепости глухо забили барабаны, в проломе появился знаменосец в латах, за ним шел Шлиппенбах. Каждый солдат имел во рту две пули, нес ружье, шпагу, ранец с припасами. Солдат и офицеров вышло всего сорок один человек, за ними шли женщины. Раненых понесли на носилках русские матросы.
— Еще на караулах человек с десяток! — произнес Шереметев. — Остальные побиты. Корить нечем — хорошо дрались…
Ночью Петр узнал, что генерал Кронгиорт идет на помощь шведам. Тотчас же в верейке он вместе с Шереметевым и Сильвестром Петровичем переплыл Неву и приказал шведскому майору снять караулы. Швед сделал вид, что не понимает.
— Вяжи его! — велел Петр. — Тогда поймет!
Майора поволокли в сторону, он крикнул громко, пронзительно по-шведски своим караульщикам, чтобы кидали факелы в пороховые погребы. Сильвестр Петрович ударил солдата шведа головою в живот, полковник Чамберс схватил другого за глотку. Секретарь Шафиров пихал факелы в бочку с водой. В кромешной тьме стало так тихо, что все услышали шелест дождя…
— Сучьи дети! — тяжело дыша, молвил Петр. — Взорвали бы фортецию…
С утра было торжественное вступление фельдмаршала с генералитетом и армией в крепость. Троекратно ударили все пушки — и русские и отобранные у шведов, — троекратно протрещали залпы из всех ружей и мушкетов. После молебствия Меншиков объявил государевым именем новое название Нотебурга. Сию крепость повелено было именовать Шлюссельбург — что значит Ключ-город, ибо отныне отперты ворота в исконные свои земли.
Под пение горнов и барабанный бой фельдмаршал Шереметев поднялся на западную башню и, низко поклонившись войскам, повесил ключ от крепости на железный крюк, вбитый в камень…
На ночь в цитадели поставили караулы, а спать уехали на берег. Перед тем как сесть в шлюпку, Ванятка потянул отца в сторону, сказал доверительно на ухо:
— Тятя, тут за щебнем барабан ихний остался. У меня-то худой, весь измятый…
— Что ж, бери, заслужил, — усмехаясь ответил лоцман.
Ванятка подобрал шведский барабан, сунул в шлюпку под банку, на берегу тотчас же побежал испытывать, подальше, к роще.
Всю ночь на берегах Невы и в цитадели горели костры — большие и малые, на кострах кипели котлы с варевом. В русском войске почти никто не спал. Солдаты, сидя на пнях, на пушечных лафетах, на срубленных соснах, поминали битву, показывали руками, как кто колол багинетом, бил прикладом, лез по штурмовой лестнице. Побывавших в пекле битвы слушало молодое пополнение, белобрысые парни. Еще не нюхавшие пороху испуганно переглядывались, бывалые солдаты рассказывали страшнее, чем было на самом деле, хоть было и достаточно страшно…