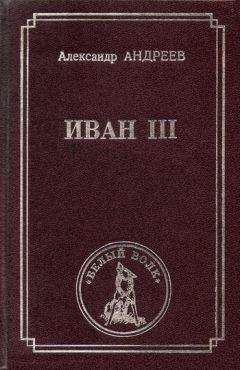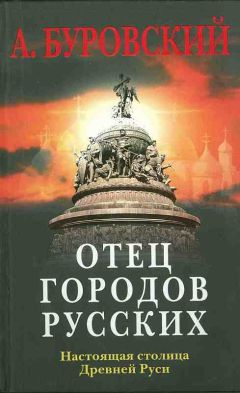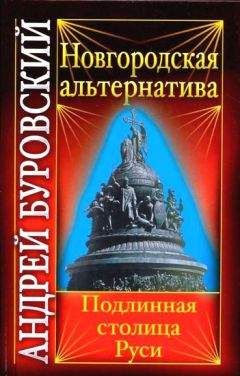Натан Рыбак - Переяславская рада. Том 2
У Яненка даже глаза на лоб полезли. Сатана! Как угадал, проклятый, беспокойную мысль, которая не оставляла его? Может, и вправду колдун? Смерил недобрым взглядом сухощавую фигуру Капусты. Тот улыбался. Чуть вздрагивала верхняя губа, ходили скулы под кожей. Казалось, сдерживал смех.
Яненко крикнул слугу. Но Капуста остановил движением руки.
— Не голоден. Гетман где?
— Дай ему покой, — огрызнулся Яненко. — Сейчас только так разгневался на Мужиловского, что, пожалуй, и теперь еще не отошел.
— Я-то ему покой дам, лишь бы вы дали, — проговорил загадочно Капуста. — Проводи к нему.
— А может, спит?
— Увидим.
Хмельницкий не спал. Сидел у раскрытого окна, опершись на подоконник. Смотрел в сад, шумевший листвой и курил трубку. Услыхал шаги за спиной. Узнал лег кую походку Лаврина Капусты, Не оборачиваясь, спросил:
— Ты, Лаврин?
— Я, твоя ясновельможность, — звонко отозвался Ка пуста.
Яненко вышел из горницы.
Хмельницкий обернулся, протянул руку Капусте:
— Садись. Чем порадуешь? Злым или добрым?
— Одно без другого не бывает, — уклонился Капуста.
— Врешь! Бывает! Это только у тебя не бывает.
Капуста развел руками, но все же спросил:
— У кого ж такое бывает — только доброе или только злое, — осмелюсь спросить, пан гетман?
— У Ивана Выговского.
— О, этот может! — согласился Капуста.
— Ну, так угощай. Наверно, не для того, чтобы взглянуть на меня, гнал лошадей день и ночь? Угощай!
— В Стамбуле худо. По всему видать, будет новый визирь Магомет-Кепрели, потому что он уже получил большой бакшиш от князя Ракоция. Папский легат приезжал в Стамбул: обещал, что Венеция уступит, если только султан повелит хану крымскому послать орду в помощь ляхам. Может, орда выступит осенью, а самое позднее — зимой…
— Не может этого быть, — зло сказал Хмельницкий, пристально заглянув и глаза Капусте. — Не должно так быть. Слышишь?
— Слышу, пан гетман!
— Да брось ты мне это «пан, папа, пану»! Больно быстро все панами стали… А выступит сейчас орда, знаешь, что из этого будет?
Капуста кивнул головой.
— То-то же! С новым визирем войди в дружбу, как водится. Под Азовом донцы скоро начнут промышлять. Царь уже грамоту им послал. Нужно и на Казикермен пустить челны наши. Лысько что на Сечи делает? Ворует! Горелку пьет! Но надо так сделать: мол, мы не мы, не знаем и не слыхали о такой дерзости. Пусть сперва припугнут турок, а после и нам вмешаться можно будет… Кому и чуб надрать из наших… Это во-первых…
— Но…
— Что «но»? Не спеши. Во-вторых, ехать тебе, Лаврин, самому к султану. И ехать немедля! Денег возьми, ну, и сам знаешь…
— А в-третьих?
— В-третьих, уж я тебя сам угощу. Радзивилл грамоту прислал, вот прочитай.
Достал из шкатулки пергаментный свиток и протянул Капусте. Тот быстро прочитал. Вернул Хмельницкому:
— Неумно!
— И я не хвалю ум литовского Януша. Но шведы ведь не случайно глазом косят? Не нынче-завтра выступят войной на Речь Посполптуго.
— Нам на руку, — ответил Капуста.
— Погоди. На руку! — зло перебил Хмельницкий. — Известно, на руку, а не на ногу! Но цель у них дальняя: через нашу землю в Москву хотят пройти, нам глаза отвести, одним ударом и нас и Москву покорить! Нужно все доподлинно разведать. Мне в Стокгольме человек нужен. Умный, смелый, отважный. Кто?
— Малюга дал знать: Осман-паша поехал в Стокгольм, был у короля Яна-Казимира в Гродно, из Стокгольма появится в Чигирине.
— Это важно. Отпиши о том немедля за моей подписью в Москву, боярину Ордын-Нащокину. А Малюге нужно в Стокгольм пробираться…
— Опасно! После смерти Гунцеля не поручусь, что за ним не следят. Если вырвется живым из Литвы, и то хорошо!
— Кого ж послать?
— Дай время, гетман.
— Времени нет. не я его даю, Лаврин, пойми. Время нас подгоняет. Не успеем сегодня — завтра поздно будет. Только закончим на Белой Руси, Смоленск возьмет царское войско, пойдет нам навстречу под Брест. Прежде шведов должны мы в Варшаву прийти.
Хмельницкий нагнулся в кресле и проговорил горячо, прямо в лицо Лаврину Капусте:
— Крылья, крылья нужны, городовой атаман! Крылья!
Капуста колебался, искал, как начать. Хмельницкий почувствовал его нерешительность, приказал глухо:
— Угощай дальше.
— В Субботове у тебя не все ладно. От Фомы Кекеролиса разит иезуитом.
— Откуда взял?
— А вот послушай. Прибыл оттуда мой казак, сказывал. В селе бабка Ковалиха прострел отшептывала…
— Знаю, знаю! — нетерпеливо постучал ногой Хмельницкий. — Постарел ты, Лаврин, шептуньями начал заниматься…
— Стали говорить люди в шинке: мол, Ковалиха ведьма…
— Да ее и без того звали ведьмой, — засмеялся Хмельницкий. — Что ж из того?
— А вот оный Фома созвал народ и объявил: «Ежели Ковалиху в воду кинуть, а она выплывет, значит, ведьма, это нечистая сила ее спасает; а ежели потонет и вода ее примет, значит, честная, небо принимает ее к себе…»
— И что же?
— А то, что нашлись дураки, закинули в воду Ковалиху. Начала выплывать — тогда Кекеролис закричал: «Ведьма она, ведьма! Теперь видите, почему на коров падеж и вишня не уродила? Она всему виной!..» Ну, дураки и помогли Ковалихе нырнуть и не вынырнуть!..
— Ах ты, злодей!.. Аспид иезуитский!..
— Истинно аспид! А хуже всего то, что был с Фомой и Юрась и тоже кричал: «Ведьма она, ведьма!.. Топите ее, люди!» Что ж, гетманича послушались…
— А ведь он православный, тот Фома, — задумчиво проговорил Хмельницкий.
— Для достижения своей цели иезуиты и рога наденут на голову. Ты о том хорошо знаешь.
— Твоя правда, Лаврии.
— Надо бы приглядеться к этому Кекеролису.
— Возьми его, — махнул рукой Хмельницкий, — возьми и спроси. Да расспроси хорошенько.
— Как полагается, — пообещал Капуста.
— Зови Мужиловского и Яненка, будем совет держать насчет стамбульских дел.
…А на рассвете, уже погружаясь в сон, Хмельницкий решил: нужно ехать в Субботов немедля. Ганна ждет. Юрась… тот не ждет. Но эта мысль не удивила, только вы-звала досаду.
Солнце уже стояло высоко в небе. Гетман, строгий и сосредоточенный, вершил дела. Подписывал универсалы, читал грамоты от цехов. Говорил с купцами.
Явился Лученко и объявил:
— Пришли попы.
— Давай попов.
Поднялся навстречу. Склонил смиренно голову. Увидел — впереди архимандрит Иосиф Тризна, за ним игумен Критского монастыря Иоанн и еще несколько чернорясников в клобуках. В руках держали кресты. Глядели на него со страхом. он проглотил едкую усмешку. Подошел под благословение к Тризне. Поцеловал руку. Будто не он вчера кричал в митрополичьих покоях. Пригласил садиться. Сам не садился, ждал, пока попы, кряхтя, размещались в креслах. Только когда все уселись, тоже сел. Заговорил:
— Бог сподобил нас вершить дело великое, дабы освободить край наш из-под ига латинян. Весь край наш в этом святом деле готов службу служить церкви нашей. Я, святые отцы, как видите, ради этого жизни не щажу. Знаю о ваших недостатках. Иезуиты вам немало обид причинили, униаты тоже не жаловали милостью. Говорено мне его высокопреосвященством про нужды ваши, и вот — Протянул руку к столу, взял приготовленный универсал, передал генеральному есаулу Лученку. — Читай.
Лученко развернул свиток пергамента, откашлялся в ладонь, начал читать.
Попы, вытянув шеи, слушали внимательно.
— «Богдан Хмельницкий с Войском Запорожским, его величества царя Московского гетман. — Понеже всемогущею своею рукой бог и создатель неба и земли сподобил меня недругов и гонителей матери нашей, восточной православной церкви, ляхов с Украины далеко прогнать, имею твердое намерение, для поправления и оживления, передать маетность, коя принадлежала доминиканскому монастырю, — монастырю Братскому, а именно: село, что зовется Мостищем, по реке Ирпень, со всеми принадлежащими ему полями, грунтами, сеножатями, борами, лесами и всеми мельницами и прибытками, — даю во владение и спокойное пользование».
Лученко перевел дыхание и громким голосом произнес:
«Дано в Киеве. Богдан Хмельницкий своею рукой».
Хмельницкий заметил, как Иосиф Тризна покосился на игумена Иоанна. Мннуты две длилось молчание. Слышно было посапывание толстого архимандрита. Игумен потирал руки ладонь о ладонь, внимательно глядел на гетмана.
Погладив рыжую бороду, Тризна сказал:
— Скудно жалуешь святую обитель, пан гетман. Сие удивления достойно! Ведать должен — пожалование твое ефемерно, понеже мельницы те войной разрушены, а на грунтах чернь осела… Паче того…
— Паче того, есть лучшие земли у монастыря бернардинского, но его высокопреосвященство говорил — их не трогать, — ехидио сказал Хмельницкий. — И тем будем премного довольны, святые отцы.