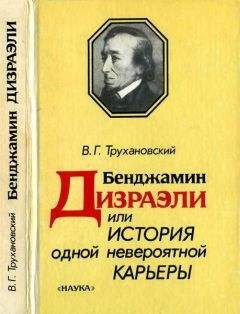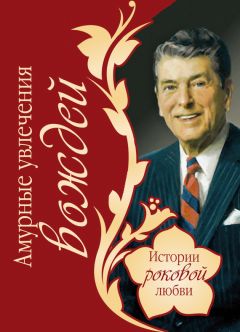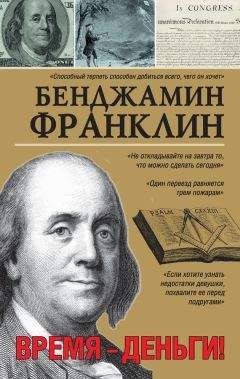Марк Алданов - Живи как хочешь
Яценко вздохнул. Ему очень хотелось поговорить о себе, о своих планах, о своей книге, о том влиянии, которое оказал Дюммлер на ход его мыслей. Но он видел, что это не удастся: его собеседник был слишком поглощен своими мыслями. «У нас общая беда: и ему, и мне не с кем говорить». Впрочем, старик сам подумал, что не дает гостю сказать слова.
– Простите меня, – сказал он, – в последнее время я все больше злоупотребляю монологами и, главное, как будто бессвязными. Этому я тоже, кажется, научился у Мамонтова. Он в молодости имел на меня большое влияние, хотя начал я жизнь почти с ненависти к нему. Я подражал ему во всем. Он часто бывал многословен, но бывала у него и imperatoria brevitas, мало свойственная ораторам и causeur'aм. Боюсь однако, что я заговариваюсь: ничего не хочу уносить с собой в могилу, а унесу много… В мои годы нужно тревожно на себя оглядываться: не выжил ли ты, братец, из ума? Что, я нынче не наговорил глупостей?
– Нет, я не заметил, – сказал, смеясь, Яценко. – Кем же он все-таки был, этот Мамонтов?
– Никем. Он был умнее многих прославившихся людей, но ничего из него не вышло. Впрочем, он и умер, по глупому выражению, «безвременно"… Французский король спросил герцога д-Юзес, отчего в их роду не было ни одного маршала. Тот ответил: „Государь, мы не доживаем: нас убивают на войне раньше“. У Мамонтова были все шансы стать маршалом, если бы, при своих взглядах, он мог за что-либо воевать… А я вот и жил до смешного долго, но маршалом не стал. Жаль: хотелось бы узнать, как это себя чувствуют маршалы. Впрочем, вы Мамонтова не знали, и он вам совершенно не интересен. Как, вероятно, и все то, о чем я говорю.
– Мне чрезвычайно интересно все, что вы говорите, Николай Юрьевич.
– Вы очень любезны, – сказал Дюммлер. – Вы спрашивали об «Афине». Я и бываю там теперь редко, это помещение печально, как на море заколоченная на зиму гостиница… Очень милая, ваша невеста, очень, – неожиданно сказал он, внимательно глядя на Яценко. – У нее могут быть некоторые небольшие недостатки, но ведь надо помнить и то, через какую школу она прошла. Ведь она советское дитя. Тут снисходительность обязательна.
– Снисходительность? – с недоумением спросил Виктор Николаевич. Ему было непонятно, что хотел сказать старик и зачем он это сказал.
– Ну, что ж, счастливого вам пути. Простите, что нагнал на вас тоску. Это мне в общем не свойственно. Как ни правдоподобно теперь к несчастию, что мир погибнет, мне не хочется расставаться с «просветленным состоянием», в котором прошла последняя и, несмотря на просветленность, худшая часть моей жизни. Просто душа этого не приемлет. После Дюнкерка и взятия Парижа теоретически все было почти кончено, но душа Черчилля и де Голля этого не приняла. Они все поставили на «почти», на «а вдруг», и спасли мир тем, что действовали вопреки рассудку. Тогда, правда, можно было надеяться на глупость врага, и эта надежда именно и оправдалась. На что надеяться теперь? Смысл жизни только в том, чтобы помогать tuche за счет moira. И тут ни от какого орудия воздействия отказываться нельзя: Юнеско так Юнеско. Кинематограф так кинематограф… Наша главная надежда, наша единственная надежда: на «искорку». Какое счастье, что в душу человека заложена эта непонятная любовь к свободе и к правде! Искорка эта слаба, она еле заметна, она часто почти гаснет, она исчезает в одном месте и проскакивает в другом, но в ней есть своя огромная сила. Миру теперь нужно возрождение или, быть может, создание духовных ценностей, которых было мало у царей и революционеров, у Бисмарков и у Марксов. Уж лучше иметь спорные, пусть даже ошибочные, но не гнусные духовные ценности, чем не иметь никаких. Для меня есть одна ценность и по сей день совершенно бесспорная: это свобода. Прежде я верил еще в другую, в человеческое достоинство, теперь, после всего пережитого, в нее верю меньше. Эти полторы ценности предполагают еще многое: не задавливать людей трудом, помнить, что и бедным людям хочется жить. Я теперь смотрю на жизнь немного со стороны. Сахарина, однако, терпеть не могу и в жизни, и в искусстве, и в философии… Прежде я еще мог писать… А теперь я, как люди, которые потерпели крушение и из спасательной лодки смотрят на встречный пароход. Я даже и сигналов не подаю. Пароход не видит и проходит мимо… До новых общечеловеческих катастроф я не доживу, передо мной уже вплотную не tuche, a moira в виде удара или рака предстательной железы: вопрос только в том, что из двух придет раньше. Я уж предпочел бы воспаление легких… А то будет один из тех несчастных случаев, которые так часто происходят со стариками – упал, ушибся – и укорачивают их жизнь или умиранье. Был человек и нет человека. Смешно и гадко: меня иногда в мои годы еще тянет на какую-то работу! Случается, по воскресеньям злюсь, что нет почты. А иногда, напротив, думаю: «Слава Богу, до понедельника не будет ни одного письма». Вы видите, я «раздираем противоречиями», как пишут умные литературные критики о разных персонажах романов.
– Зачем же… – начал было Яценко, но Дюммлер перебил его:
– Сегодня я проходил мимо одного дома… Там жила женщина, которую я когда-то любил… Нет, все-таки неужто ничего не останется?..
У него вдруг выступили на глазах слезы. Он встал и обнял Яценко.
– Прощайте, дорогой мой, мы больше никогда не увидимся. Помните, что надо все-таки принимать жизнь. Часто говорят: «Начинать все сначала? Нет, ни за что!» А я с великой, с несравненной радостью все начал бы сначала: опять старый Петербург, опять наш дом, и все «продолжение следует». Все принимаю, все! По завету Данта: «alla Fortuna come vuol soi pronto».[50]
– И я был бы готов начать все сначала. Прошел бы снова через страшные советские годы, лишь бы снова увидеть Россию времен моего детства… И не что-либо там важное, основное… Я иногда вижу перед собой уголок Летнего сада – и на глазах выступают слезы. Тургенев где-то описывает природу «великорусской Украины». Мой отец был родом из тех мест, и он полушутливо говорил, что он не простит Тургеневу двух слов в этом описании: вишни будто бы там были «жидкие». Как сейчас помню, отец говорил: «А на самом деле таких вишен нигде в мире не было и не будет!"
– Да, это у нас у всех. К таким вишням и сводится понятие родины… На прощание же я хотел бы сказать вам одну вещь. Нет, не одну, а две. Первое: служите людям все-таки, служите добру все-таки. У вас в душе есть холод, который скажется на ваших произведениях. А в литературе, как в старинной энкаустике, качество достигается только прокаливанием красок. Прокалите вашу душу. И второе, помните пушкинский стих: «На свете счастья нет, а есть покой и воля"… В мою память повторяйте этот стих себе иногда и вы… Больше же всего оберегайте независимость своей мысли. В каждом художнике сидит льстец-Рубенс, хотя бы он угождал не власть имущим, а толпе, настроенной против власти, и угадывал, что ей нужно. Настоящие писатели и оплакивать общественные бедствия, человеческое падение, должны не так, как все, а по-своему. Вот как во Франции одни короли носили не черный, а фиолетовый траур.
Яценко вернулся домой расстроенный. Ему иногда, в добрые его минуты, приходило в голову, что с каждым человеком надо всякий раз расставаться так, точно его снова в жизни не суждено увидеть. Теперь же и в самом деле было очень вероятно, что с Дюммлером он никогда больше не встретится. «А в душе он у меня засел навеки. Если моя книга окажется романом, я его в ней выведу"…
Дома его ждала Надя, радостно возбужденная приготовлениями к отъезду. Он был утомлен и хотел отдохнуть, но оказалось, что это невозможно: надо было тотчас идти обедать, после обеда Надя должна была куда-то уехать.
В ресторане он сказал ей, что чувствует себя так, точно вернулся с похорон.
– Николай Юрьевич, конечно, прекрасный человек, – сказала Надя, – но все-таки, право, тебе надо встречать людей помоложе. Ведь он вдвое старше тебя. Чем мы виноваты?
– Да я тебя и не виню. К тому же, ты у него и не была… Он говорил, что твой жанр красоты: Матисс.
– Матисс? – с тревожным изумлением спросила Надя. – Да ведь у Матисса не женские лица, а какие-то перекошенные рожи!
– Не перекошенные, а «деформированные», – сказал Виктор Николаевич, засмеявшись. – Надо говорить «деформированные». И не все. И ты должна быть в восторге: это самое лучшее, что можно сказать о женщине.
– Правда? Сам-мое лучшее?
– Сам-мое лучшее.
– Я страшно рада. Ты ему передал мой сердечный привет? Я ему еще позвоню завтра утром, он страшно милый… А я сговорилась с Американ Экспресс, они приедут за нашими вещами накануне отъезда. И представь, очень недорого: они считают за багаж по кубическим метрам… Не забудь кстати завтра купить ярлычки, у меня вышло восемь штук багажа. Это очень много?
– У Греты Гарбо, верно, не восемь, а тридцать восемь, – сказал Яценко и подлил себе вина. «Да, это и есть жизнь… Конечно, снисходительность обязательна, но мне и снисходительности не надо. Я люблю ее, – подумал он. – Я просто пропал бы, если бы она умерла или безнадежно заболела. Мы волнуемся обо всяких пустяках, когда большие несчастья так неизбежно близки, так страшно близки».