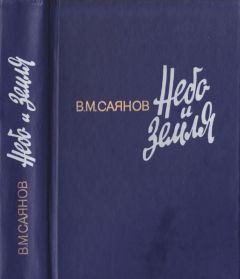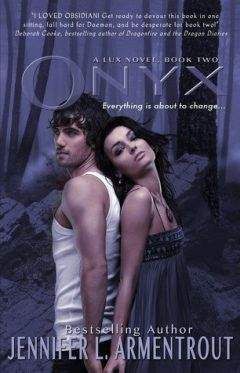Виссарион Саянов - Небо и земля
— Какое там работает! Прогуливается по цехам с тросточкой, каждое утро клянется, что и дня лишнего не будет на заводе, только оформит документы — и вернется к себе в Париж. Ведь он — агент старых хозяев, и я решил попросту выгнать его с завода…
— Вот и надо его отпустить поскорее…
Тентенников рассказал о своей беседе с мсье Риго, о подозрительных посетителях его квартиры, о прямых угрозах француза советскому государству, о вчерашней ссоре.
Выслушав рассказ Тентенникова, комиссар сказал:
— Спасибо вам большое, товарищ! Я уж сам обязательно займусь этим человеком. А вас буду ждать завтра, — тогда мы и вторую машину на вокзал отправим…
Распрощавшись с комиссаром, Тентенников направился на розыски отца Быкова.
Старик обрадовался Тентенникову и на радостях предложил сходить в баньку; теперь-то и в бане вымыться трудно, но знакомый банщик пропустит вне очереди с черного хода, и можно будет грязь дорожную смыть перед новой дорогой.
— Опять же вошь появилась, — вздохнул старик, — ползет с человека на человека, и вывести ее невозможно. Я, конечно, средствие одно знаю, да неведомо, всякому ли годится. Мне думается, помогает. Надо к гайтану, рядом с крестом нательным, ладанку привесить, а в ладанке той мяту зашить. Страсть как вошь мятный запах не обожает!
— Эх ты, — вздохнул Тентенников, — да у меня уже, почитай, лет двадцать нательного креста нету…
— Я тебе раздобуду крепкий гайтан, — услужливо предложил старик. — Ты и поноси, попробуй! Пойдем, что ли, в баньку?
Тентенников согласился, и старик тотчас же разыскал тоненький плетешок в заветной шкатулке. К плетешку он привязал ладанку с мятой и, протянув свой дар Тентенникову, хитрю прищурился.
— Только учти, — предупредил словоохотливый старик, — от головной вши ладанка не спасает…
Ваня посмеивался над стариком, но тот и не думал обижаться; и в мыслях не было у него, что Ваня не верит замысловатому объяснению. Просто смешлив по молодости лет, а от смеха кость ширится и горло грубеет, стало быть, и хорошо, раз смеется: у плаксивых ребят всегда простуда в кости…
Ваня остался дома чай собирать, а старик повел Тентенникова в баню; на Маросейку. Банщик и точно был хорошо знаком со стариком и даже повеселел, увидев гостя.
В бане было жарко и дымно, — рота красноармейцев, для которой истопили баню, внезапно, прямо из раздевалки, отправилась на фронт, и в пустом предбаннике теперь не было никого, кроме самого банщика.
— Не иначе, как подвезло вам, — доверительно сообщил банщик. — Теперь баню топим редко, так, поверите ли, по полсуток люди в очереди стоят, часа своего дожидают… И париться будете? — спросил он, подходя к Тентенникову.
— Обожаю, — ответил летчик.
— Сегодня обижаться не будете: жарко протоплена банька.
Он все поддавал да поддавал пару, и на самой верхней ступеньке полка стало по-настоящему жарко. Старик только кряхтел да охал.
— Ты мне спину потри, — попросил он, протягивая Тентенникову жесткую круглую щетку.
— Да что ты? — удивился Тентенников. — Такой щеткой лошадей скрести можно, а человеческая кожа не вытерпит…
— Терплю, терплю, — скороговоркой проговорил старик, — у меня кожа дубленая — жестче подошвы.
Он уперся руками в скамейку и терпеливо ждал, пока Тентенников мылил щетку.
— Не больно? — спросил Тентенников, проведя щеткой по костлявой стариковской спине.
— Я человек неломливый, спеси у меня нет, — важно ответил старик, и Тентенников, изловчившись так, что, казалось бы, еще немного, и до самых мышц была бы снята кожа с этой упрямой спины, провел щеткой по лопаткам.
— Сын мне говорил, будто ты очень силен, — язвил старик, — а ты против наших маросейских да сандуновских банщиков никуда не годишься: руки слабы.
Тентенникова злило всякое сомнение в его силе, и, швырнув щетку, он сердито сказал:
— Тогда сам себе спину три, я тебе не помощник.
Старик тоже обиделся и замолчал, хоть и трудно ему было пять минут провести молча. Они оба мылись шумно, разбрызгивая мыльную пену по ступенькам, и только кряхтели, когда особенно душно становилось на полке.
В бане послышались голоса, захлопали двери, задребезжали задвижки и стекла, и старик, сощурившись и вобрав голову в узкие плечи, скосил глаза на Тентенникова.
— Шумят, — неопределенно протянул он.
— Точно, шумят, — отозвался волжский богатырь, растирая мочалкой могучие плечи. — Да и как не шуметь: русский человек молча мыться не любит.
Старик сидел не шелохнувшись; какая-то странность в банном обиходе смущала его…
— Посмотрел бы ты, что ли? — прислушиваясь к доносившимся звукам, попросил он Тентенникова, боязливо отодвигаясь к самому краю полка.
— Сами придут, — сказал Тентенников.
Но старый Быков уже не ехидствовал: вечно полный ожидания чего-то необычайного, таинственного, великий выдумщик, он и теперь ждал каких-то необыкновенных происшествий.
— Кто его знает, — неопределенно протянул он.
Дверь со скрипом отворилась, струя холодного воздуха порвалась в парилку, чей-то густой, хрипловатый голос медленно произнес:
— Ни с места! Стрелять будем!
Старик растерялся и взглянул на Тентенникова, словно у него искал защиты и помощи. Но Тентенников только что намылил голову, с лица его, как бахрома, свисала мыльная пена, и он вовсе не был расположен сейчас к беседе.
— Кто еще тут дурака валяет? — сказал он сердито, шагая к выходу с зажмуренными глазами.
— Ни с места, — спокойно повторил тот же хриплый голос.
Тентенников, все еще не протирая глаз, шел на этот голос.
— Впрочем, как хочешь, — снова заговорил незнакомец и вышел из парилки.
Тентенников сполоснул лицо и, открыв глаза, оглянулся. Никого, кроме него и старика, в парилке не было. Глаза щипало, и Тентенников, вздыхая, щурился.
— Ну? — спросил он, подходя к старику.
— Ничего не понимаю… Приходили, пугали, а зачем пугали — не говорят…
— Да кто хоть такие?
— А мне ни к чему. Не приметил…
— Вот уж, воистину, сонная тетеря…
Старик обиженно молчал и только грудь растирал волосатыми кулаками.
— Фигура, — сердито промолвил Тентенников, подходя к старику. — Да и как это, право, глядя на тебя, поверить, что Петька Быков твой сын единокровный.
Старик покачал головой.
— Тяжелый вы человек, Кузьма Васильевич, — сказал он, переходя на вы. — С вами в бане мыться — и то намучаешься…
Переходы от гнева к веселью были мгновенны у Тентенникова, и он сразу же заулыбался:
— А ты тоже хорош: куксишься. И чем я тебя, право, обидел?
— Ну и давай помиримся, — промолвил успокоившийся старик. — Ты мне лучше скажи, кто такой сейчас приходил в парилку?
Они прошли в предбанник. И там тоже никого не было: банщик оставил записку, что ушел в кочегарку.
— Вот незадача, — прокряхтел старик. — Так нам с тобой теперь и не дознаться, кто стрелять угрожал.
Одевались они молча, старик сплевывал на пол, сопел и не глядел в окно.
— Ты почему унываешь? — спросил летчик.
— Без квасу плохо.
— Я тебе спирту достану.
— Правда?
— Будьте уверены.
— Я и купить могу. Вы не беспокойтесь, Кузьма Васильевич! Денег у меня… — Он засунул руку в карман пиджака, да так и застыл, словно окаменев.
— Опять загрустил? — спросил Тентенников.
— Деньги мои пропали! — истошным голосом закричал старик.
— А у меня, гляди-ка, ни копейки не взяли.
Тентенников хотел было заняться поисками бандитов, но, посоветовавшись с банщиком, отказался от своего намерения — районная милиция сама виновных отыщет. Самое странное заключалось, конечно, в том, что деньги украли только у старика, к тентенниковскому же бумажнику и не прикасались.
— Наваждение, форменное наваждение, — бормотал старик, утратив на время обычную словоохотливость, и до самой Якиманки дошли они молча, не промолвив ни слова.
Странная была у них дружба, — они всегда хорошо отзывались друг о друге и приветы в письмах посылали, а встретятся — и обязательно поссорятся.
— Я уж тебя попрошу, Кузьма Васильевич, — взмолился вдруг старик, — ты Петрухе не говори, пожалуйста…
— Ладно, не скажу…
Тентенников посидел недолго и начал прощаться.
— Уходишь уже?
— Как видишь. Мы будем тебя с Ванюшкой ждать в Эмске, хоть и без того туда с целым обозом поехали.
— Кого же взяли с собой?
— А жены наши.
— Жены? Да кто же у вас женился?
— Я женился, да и у сына твоего теперь жена есть.
Старик прослезился, провел рукавом по глазам, вздохнул.
— И жену Петр хорошую взял?
— Хорошую.
— У тебя нет ли, часом, ее карточки?
— Не захватил.
— Очень даже жалею. А с лица ничего? Не рябая?