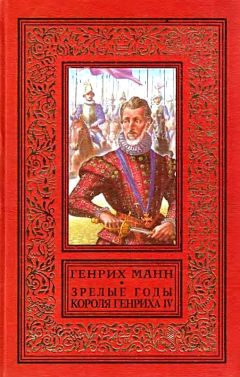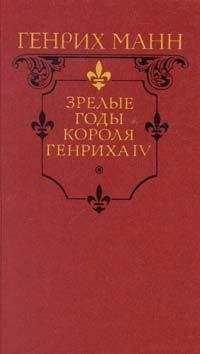Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
Иронически подтвердил:
— С этим я соглашусь. Однако ведь это безнравственно, и страна привыкает находить нравственность там, где её нет и быть не могло.
Генрих, отдуваясь, ответил:
— Всё вздор. Я должен думать только о том, что полезно и для меня и для многих.
Развёл, улыбаясь, руками:
— Ну что ж, как видишь, в таком случае о нравственности приходится заботиться мне.
Грузно привстав, толкнув под собой табурет, посетитель подсел поближе:
— Ладно, довольно язвить. Ведь всё это время мы с тобой хорошо дополняли друг друга. Заботься о нравственности, сколько возможно, коль охота пришла, и не мешай мне думать о пользе, сам хоть самую малость думай о ней да помогай мне добрым советом, ибо у тебя и в самом деле самая светлая голова во всём королевстве, а я обещаю вспоминать иногда и о нравственности.
С насмешкой спросил:
— И, помня о нравственности, конфискуешь монастырские земли единственно ради того, чтобы наполнить казну и насытить ненасытных придворных?
— Ещё раз напоминаю тебе, что советовал делать против этих извергов Лютер. Также нельзя не принять во внимание то, что германские мужики, бунтовавшие во многих местах, сотни монастырей разграбили и сожгли. Видишь сам, как их не любит народ.
Угрюмо спросил:
— И по этой причине ты делаешь вид, что встаёшь на защиту его?
В стальных глазах вспыхнул медный огонь торжества:
— Именно потому. На этот раз ты угадал.
Негромко проговорил, относя приговор скорее к опрометчиво говорившему Лютеру:
— Безумец.
Генрих укоризненно возразил:
— Однако народ по-своему прав, ибо безнравственно допускать, чтобы святые истины проповедовали именно те, кто погряз в пороке, во лжи. Да ты сам взгляни-ка на них беспристрастно и не сможешь не согласиться, что ничего нет вреднее, чем подобное осквернение истины и святынь. Они больше всех вводят в соблазн и толкают на грехопадение.
Смотрел в торжествующие глаза Генриха не мигая:
— Да, с этим я соглашусь, но не соглашусь никогда, что безнравственность пресечётся оружием. Нет, безнравственность их пресечётся словом правды и разума, Лютер и сам это понял позднее, увидев родину в раздорах, в пожарищах и в крови, и сам, уже безуспешно, твердил о необходимости возрождения, которое возможно утвердить только словом.
Государь взмахнул небрежно рукой:
— Полно, кому какое дело до слов? Да они ересью объявляют любые слова, если слова почему-либо не нравятся им, и отправляют голубчика на костёр. Потому-то в борьбе за нравственность, кроме оружия, нет иных средств. Я же не поднимаю оружия. Я упраздняю монастыри, и монахов больше не будет, ни нравственных, ни безнравственных, никаких.
— И ты ещё этим гордишься.
— Конечно, горжусь, ибо никто из нынешних государей Европы не решился таким простым способом реформировать церковь, как я, мужества недостало у них, трусы они, почему же мне не гордиться собой?
— Твоя реформа может кончиться мятежом.
— Ты, по-моему, плохо знаешь народ, о котором так усердно хлопочешь. Народ привык повиноваться из поколения в поколение и не владеет оружием, и ему не поможет никто, ибо понемногу все живут трудами и потом его и ссорятся между собой, всякий имея в этой жизни свой интерес, стоя поперёк дороги друг другу, лишь бы как можно больше урвать от этого пота, от этих трудов, и во всей этой путанице интересов и выгод лишь я один обладаю организованной силой, и, никогда не забывая об этом, страшась бунта не меньше, чем я, меня поддержат города и дворяне, им я дам кое-что из монастырских земель.
Сказал:
— Народ объединяет общая ненависть и общая вера.
Генрих возразил не мигая:
— Народ сам жаждет иметь дешёвую церковь без монахов и папы, я и даю дешёвую церковь без монахов и папы, с чего же станет он бунтовать? Это ты упрямством своим толкаешь к бунту народ, именно тем, что парламент взял тебя под защиту несколько раз, а церковь предлагала в дар тебе немалые деньги.
Напомнил:
— Я отказался от них.
Король скривил иронично губы:
— Ты один отказываешься от всего в этой стране, однако же деньги тебе предлагали, а это значит, что церковные власти против меня и станут сопротивляться, пока ты не умрёшь или не примешь моей стороны. Я в последний раз предлагаю тебе повиниться завтра передо мной, чтобы церковные власти не бунтовали народ и народ оставался спокойным.
— Кроме дешёвой церкви без монахов и папы, народ мечтает о равенстве, как оно ещё первыми христианами было заведено, о равенстве имущественном, братстве духовном. Без такого равенства, без такого братства народ не представляет себе ни справедливости, ни даже порядка. Без такого равенства, без такого братства полностью он не покорится никогда никаким королям. И придёт час, попомни меня, когда он восстанет на монархов во имя жизни на земле по законам Христа.
Государь властно отрезал:
— Равенства и братства я не дам никому! И никто!
Улыбнулся:
— Мне стыдно было бы жить, если бы я с тобой согласился.
Генрих потупился, размышляя о чём-то, ворча:
— Ну что ж... воля твоя...
Видимо, больше ничего не придумав, поднялся, отшвырнув здоровой ногой табурет, шагнул тяжело и поднял лежавшую на постели броню:
— Помоги мне. Это в последний раз.
Мор молча затянул ремни на броне.
Нахлобучивши каску, Генрих, дрогнув голосом, произнёс:
— Прощай, Томас. Мне всё-таки жаль. Мне будет тебя не хватать.
Философ спокойно ответил:
— Прощай.
Генрих вышел, больше обычного припадая на правую ногу, раздувшийся, грузный, с опущенной головой.
Узник лёг и тотчас уснул.
Глава двадцать шестая
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Луна была справа. Она побледнела и мёртвым светом серебрила крыши домов. В узких улочках было темно. В часы тяжёлых раздумий, в часы нестерпимого одиночества Генрих любил ночные прогулки. Он тихо крался вдоль стен и внезапным появлением пугал одиноких прохожих, которые шарахались в сторону, принимая его за бандита, и он смеялся им вслед. Зашёл в кабак с головой дикого кабана вместо вывески, что первым попался ему на пути. Светильня, брошенная в миску с маслом, тускло светила. Несколько пьяных молча сидели в углу, должно быть, уже не в силах подняться. Кабатчик мирно дремал. Король развязал кошелёк, долго звенел в нём монетами и заказал кружку пива. На звон монет никто не поднял головы. Кабатчик, очнувшись, нацедил ему пива и, казалось, снова уснул. Генрих выпил только до половины, ещё раз позвенел в кошельке и продолжал свой обычный обход.
В двух или трёх кабаках было то же. Только в четвёртом, ближе к окраине, было густо от винных паров и табачного дыма. Огонь светильни дымил и дрожал. Запоздалые пьяницы сидели за всеми столами и стояли у стойки, но пили немногие, верно, успев пропить последнее пенни. Его величество, как всегда, остановился у стойки, у всех на глазах развязал кошелёк, долго звенел, перебирая монеты, и спросил пива. Кое-кто шевельнулся, повернул голову и уставился в его широкую спину. Генрих чувствовал пьяные взгляды. Они веселили его. Пил пиво небольшими глотками и делал между ними большой перерыв. За его спиной послышалось ворчанье и шум. Государь напрягся, но продолжал стоять как ни в чём не бывало, только рука, державшая кружку, нервно дрожала, и он поставил её. За спиной послышались шаги, тяжёлые, но осторожные. Вдруг чья-то рука тронула его за плечо и грубый голос сказал:
— Что, приятель, как видно, разбогател. Так угощай честную компанию.
Монарх не оборачивался и напряжённо молчал.
Рука надавила плечо:
— Тебе что говорят! Ты глухой?
Тогда повернулся проворно и хлёстко ударил в челюсть справа и вверх, как его ещё в юные годы учил наставник по рукопашной борьбе. Крепыш в густой бороде повалился как сноп и затих. Человек двадцать надвинулись на него, стоя плечо в плечо, сверкая злыми глазами, готовые броситься. Выхватил из ножен кинжал и приказал негромко, но грозно:
— Назад. — И вдруг крикнул: — Назад! Я — король!
Толпа невольно сделала шаг назад.
Кабатчик неприметно выбрался из-за стойки, выскользнул вон, ударил в колокол, висевший на этот случай над дверью, и завизжал:
— Стража! Стража! Сюда!
Казалось, чернь зарычала, как дикий зверь, готовый броситься и разорвать на куски. Генрих не двигался и прикидывал, как на охоте, кого первого свалит ударом кинжала под самые рёбра, кто будет вторым.
Кабатчик вопил:
— Эй, стража, стража! Сюда!
Толпа двинулась и вдруг застыла на месте.
Раздался цокот копыт и тяжёлая поступь солдатских сапог. Кто-то спрыгнул с седла и, подавая, видимо, повод, сказал:
— Подержи.
Вошёл офицер, в кирасе и каске, совсем молодой. Двое копейщиков застыли у входа. Люди расступились. Офицер вздрогнул, вытянулся и отдал честь: