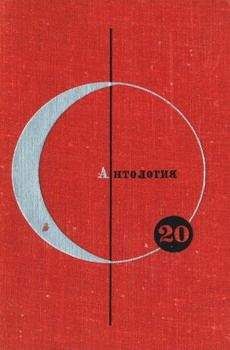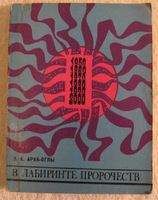Эдуард Зорин - Большое Гнездо
— Вот кого пригревала Досифея на своей груди, — сказала она, покачав головой.
— А уж кого пригрела, про то и не сказывай, — улыбнулась Малка. — Тебе ли жаловаться, тебе ли не молиться за игуменью. Не забыла я козни твои, Пелагея. Ну да бог тебя простит, а мне разговорами тешиться недосуг.
И ушла, и уплыла, как павушка, и мальчонка следом за нею засеменил, прижимая к груди шкатулку. «Поди, обруч новый купила али ожерелье», — провожая ее взглядом, с завистью подумала Пелагея…
— Ты куда это мыслями отлетела? — донесся до нее недовольный голос игуменьи.
Пелагея вздрогнула — светлое видение исчезло, вокруг были все те же невзрачные бревенчатые стены, на столе потрескивал огарок свечи. Перестав молиться, игуменья прилегла на сукманицу, опираясь на локоть, смотрела на монашку с подозрением.
— Помоги-ко рясу снять…
Пелагея проворно разоболокла игуменью, поцеловала ей руку.
— Бог с тобою, — перекрестила ее Досифея.
Черница тихо вышла из кельи, прикрыв за собою дверь.
Глава десятая
Верную весть принесли вездесущие гонцы — скоро вернулось из Смоленска Всеволодово войско. Радость была во Владимире неизреченная: никого не порубили в сече, никого не угнали в полон. Встретились мужья с женами, отцы с детьми, сыновья с родителями.
Мудр был князь, зря крови не проливал, на бога не надеялся, но и выгоды своей не упускал.
Все остались довольны: Чернигова Всеволод не опустошил, перепугавшийся было Роман снова утвердился, как и прежде, не боясь соседей, на своей Волыни, Владимир остался твердо сидеть в Галиче, один только Рюрик бесновался.
«Сват! — писал он Всеволоду в грамоте. — Ты клялся: кто мне враг, тот и тебе враг. Просил ты у меня части в Русской земле, и я дал тебе волость лучшую не от изобилья, но отнявши у братьи своей и у зятя своего Романа; Роман после этого стал моим врагом не из-за кого другого, как только из-за тебя, ты обещал сесть на коня и помочь мне, но перевел все лето, а теперь и сел на коня, но как помог? Сам помирился, заключил договор, какой хотел, а мое дело с Романом оставил на волю черниговского князя; он будет нас с ним рядить? А из-за кого же все дело-то стало? Для чего я тебя и на коня-то посадил? От Ольговичей мне какая обида была? Они подо мною Киев не искали. Для твоего добра я был с ними недобр, и воевал, и волость свою пожег. Ничего ты не исполнил, о чем уговаривался, на чем мне крест целовал».
Прочитав сердитую грамоту Рюрика, Всеволод отложил ее и спокойно предался каждодневным делам. Был киевский князь ему неопасен, вести из Новгорода куда боле занимали его.
Но Мартирий послов не слал, ничего не знал и Мирошка Нездинич.
А ранняя осень широко шла по Руси. Уже миновали михайловские утренники, обметала похолодевшие травы глубокая роса. На опавшую с дерев багряную листву посыпались частые дождички. По лесам бродили сонные медведи, готовились залечь в берлоги, искали укромные места.
Короче стали дни, длиннее вечера. Призвав Четку, подолгу сиживал Всеволод с сыновьями, слушал, как читали они книги, привезенные в подарок от Давыда.
Со смоленским князем беды не вышло, серчать на Всеволода у него не было причины. А чтобы еще крепче привязать его к себе, надумал Всеволод женить Константина на дочери Мстислава Романовича, Давыдовой племяннице, Агафье.
Узнав об этом, Мария огорчилась, испугалась и за Юрия: уж не уготовил ли он и ее любимцу такую же участь?..
— Куды ему жениться, — сказал Всеволод, — он и сам что твоя девица.
Вернувшийся из похода Константин вытянулся еще больше, раздался в плечах. Хоть и было ему всего одиннадцать лет, но выглядел он намного старше.
Увидев его на коне въезжающим в детинец, игравший с дворовыми ребятишками Юрий оробел:
— Ты ли это, брате?
Кинулся к нему, стал ощупывать на Константине кольчужку, примерился к мечу. Похвастался:
— А у меня дедов меч висит в ложнице.
— Будет щупать-то меня, — отстранился от него Константин. — Эко невидаль — меч. Погляди, как я из лука стрелы мечу.
Семижильной тетивы поданного отроком лука Юрий не смог отжать.
— Чем тебя только матушка кормила, — посмеялся над братом Константин.
Поднял лук к плечу, вложил стрелу и метнул ее в резной конек теремного дворца. Вонзилась стрела в хвост деревянному петуху да так там и осталась.
— Сильной ты, — с завистью проговорил Юрий.
— Ты чему брата учишь? — напала на Константина появившаяся на крыльце Мария.
— Здравствуй, матушка! — кинулся к ней Константин, обнял ее. Мария расплакалась. Отстранив сына, придирчиво разглядывала его лицо.
— Черной ты стал, — пожаловалась она. — Сразу-то и не узнать.
— Солнышко это, матушка, — отвечал Константин.
— А ликом весь в отца. И глаза те ж. И голос…
Константину понравились ее слова. На отца походить он и сам хотел, во всем подражал ему. Но зачем же плакать и обнимать его у всех на виду?!
Постарела Мария. Коротка вроде была разлука, а новые морщинки легли в уголках ее губ.
Заметил перемену и Всеволод. Кольнуло в сердце, подумалось: вона как убивалась, скучала по мне. Но нежности он не испытал, былого влечения не почувствовал. Обнял жену сухо, поцеловал, как покойницу, в лоб. Целуя, замер на мгновение, вдруг представив совсем другое лицо.
«Да что же это?» — удивился он. Любовь, дочь Василька витебского, не выходила у него из головы.
Девочка она совсем была, Константину под стать. А что поразило в ней Всеволода, почему вдруг вспомнилось Заборье?
Не юностью ли повеяло на него, не ту ли охоту вспомнил он, когда обнимал в Заборье боярышню Евпраксию? Годы ушли, а сладости первой близости в сердце не истребить. Отсеялось многое, кануло в небытие, протянулись через долгую жизнь короткие и длинные дороги. Осыпала голову седина, изловчился ум, а сердце молодо, как и прежде. И живости в глазах его не убыло, и руки были сильны, и губы тосковали по незнаемой ласке.
Да полно, разве мало красавиц встречал он на своем пути, разве не дарили они его щедро всем, чего бы он только ни пожелал?! Но ни одна не взволновала его дольше, чем на день, чем на одну походную ночь. И был он верен Марии, и из любого самого дальнего далека спешил, погоняя коня, чтобы ткнуться лицом в ее трепетные колени.
Сидя в тереме у Давыда, наблюдал он за молодой княжной, и однажды вдруг почудилось ему: вошел Константин с воли, стремительный, стройный, а в глазах необычный блеск — неспроста это, неспроста… Ущемила старого князя ревность, позавидовал он сыну, что вся жизнь у него впереди. А его, Всеволодов, буйный пир отшумит скоро, и свезет его Константин, как сам он свез Михалку, брата своего, на красных санях к Успенскому собору…
Вечером кликнул он сына через Веселицу и так сказал ему:
— Женить тебя пора, сыне.
— Да что ты, батюшка? — удивился Константин, но радость его не ускользнула от внимательного взгляда отца.
Нет, не зря ущемила Всеволода ревность, понял он, отчего глядела на Константина, не отрываясь, молодая княжна.
Но не с малым витебским князем хотел он породниться, совсем другое было у Всеволода на уме. И сник Константин, заюлил перед отцом, краснея, как непорочная девица.
— Давыдову племянницу Агафью даю тебе в жены, сыне, — сказал Всеволод. — И с князем смоленским били уж мы по рукам.
— Воля твоя, батюшка, — с безысходной покорностью отвечал Константин.
Ни себя, ни детей своих не жалел Всеволод ради задуманного (Давыдова дружба была ему нужна, чтобы держать в повиновении Чернигов), но не покривил ли он на сей раз душою? Ведь и Юрия мог бы он пообещать Мстиславне в мужья…
Не знал он, да и откуда было ему знать, каким горьким было расставание Константина с Любовью Васильковной.
Последний раз сидели они, обнявшись, над Днепром, последние говорили друг другу слова и не ведали ничего о том, что пройдет не так уж и много лет, как встретятся они снова — и не где-нибудь, а во Владимире, в княжеском терему, куда войдет она новой хозяйкой. По извилистым дорогам жизни пройдет Любовь Васильковна, и сам епископ Иоанн обвенчает ее в соборе Успения божьей матери с овдовевшим Всеволодом.
Ушла княжна по отлогому бережку, и, когда светлая понёва ее скрылась среди деревьев, Константин упал лицом на мокрую от росы траву и горько заплакал.
Первые это были его мужские слезы, с годами высохнут его глаза, станут холоднее и зорче. А покуда сердце у княжича мягкое, первая боль проводит по нему свою борозду.
Угрюмее стал Константин, на обратном пути не тешил себя охотой, Веселицу поругивал без нужды, Четке перечил, а иногда дерзил и самому Всеволоду.
Князь видел причину его невзгод, а потому не досаждал попусту, да и Веселице велел не липнуть к Константину, Четку же и сам при случае наказывал за излишнюю радивость: