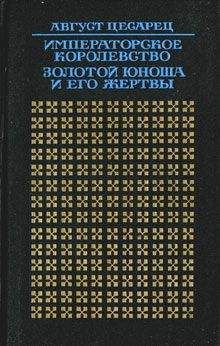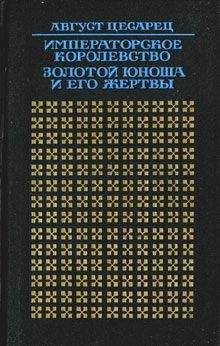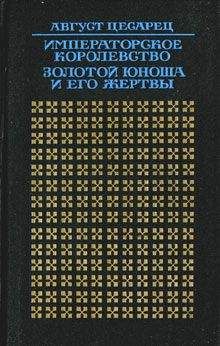А. Сахаров (редактор) - Павел I
Спустя несколько времени Литта, совершенно спокойный, входил в кабинет генерал-губернатора.
– Вы, ваше сиятельство, – сказал ему после взаимных приветствий по-французски Пален, – не получали ещё от графа Ростопчина никакой бумаги?
– Нет ещё, – отвечал Литта.
При этом ответе по губам Палена пробежала какая-то странная улыбка.
– А не позволите ли, любезный граф, попотчевать вас стаканом лафита, я на этих днях получил превосходное вино, – проговорил скороговоркой генерал-губернатор, направляясь к двери, как будто для того чтобы сделать распоряжение об угощении Литы.
Услышав это предложение, Литта вздрогнул, нервная дрожь подёрнула мускулы его лица.
– Неужели дело дошло до этого? – проговорил он взволнованным голосом, с изумлением глядя на Палена.
– К сожалению!.. – отозвался Пален, с выражением безнадёжности пожав плечами.
– А сколько сроку? – спросил оправившийся Лита.
– Четыре часа, – коротко отрезал Пален.
– Бедная моя жена!.. – в отчаянии воскликнул Литта, закрыв глаза руками. – Такое неожиданное несчастье поразит её!
– Поэтому-то я, – сказал с большой любезностью Пален, – и постарался выманить вас поскорее к себе, то есть сделать так, чтобы графиня не знала ничего. Я не приехал к вашему сиятельству, потому что очень хорошо знаю, какую тревогу производит появление моё в чьём-нибудь доме: мне известно, что я не считаюсь отрадным вестником…
– Благодарю вас за внимание, – проговорил Литта. – Но неужели нельзя изменить этого решения? Неужели нельзя выпросить хоть какой-нибудь отсрочки?..
– Не думаю, – холодно ответил Пален и, взяв за руку Литту, подвёл его к окну кабинета, выходившему во двор. – Вот видите, граф, – сказал Пален, указывая Литте на стоявшие во дворе по случаю распутицы и зимние кибитки, и летние тележки, – здесь шесть тележек и столько же кибиток, и я сам не знаю, переменятся ли запряжённые в них лошади до того времени, когда мне самому придётся прокатиться на одной из них. Теперь я высылаю на них других, а, быть может, через несколько часов и сам усядусь в одну из них. У каждого из нас есть никому не ведомый роковой черёд.
– Это, однако, нисколько не утешительно, – с заметным раздражением проговорил Литта.
– Разумеется, – отвечал хладнокровно Пален и, уперев в Литту свои умные и проницательные глаза, насмешливо добавил: – Впрочем, не сами ли вы, граф, всегда повторяли, что безусловное повиновение – первая добродетель мальтийского рыцаря; вот теперь вам и предстоит случай выказать на деле эту добродетель, исполнив безотлагательно волю великого магистра и императора и не ставя меня в печальную необходимость…
– О, будьте уверены, ваше сиятельство, что я не доведу вас ни до малейшей неприятности, – сказал твёрдым и громким голосом Литта и, дружески простившись с генерал-губернатором, вышел из его кабинета.
Чем спокойнее входил туда Литта, тем сильнее должно было его озадачить приглашение Палена – выпить лафиту. Всему Петербургу был известен настоящий смысл такого потчевания, так как оно во избежание подготовительных объяснений делалось со стороны генерал-губернатора тем, кому он должен был объявить высочайшее повеление о выезде из столицы.
Возвратясь домой от Палена, Литта нашёл у себя письмо, присланное от графа Ростопчина. В письме этом великий канцлер мальтийского ордена сообщал Литте, что его величество, имея в виду, что он, граф Литта, получил за своею супругою весьма значительные имения, находит, что для успешного управления этими имениями графу Литте следовало бы жить в них, выехав поскорее из Петербурга, тем более что пребывание в деревне может быть полезно и для его здоровья. К этому Ростопчин прибавлял, что на место его, Литты, на должность «поручика» великого магистра назначен государем граф Николай Иванович Салтыков.
Разумеется, что Литте, поражённому происшедшей неизвестно по какой именно причине опалою государя, не оставалось ничего более, как приготовиться к отъезду в тот короткий срок, который был объявлен ему генерал-губернатором. В доме графа началась суета и сборы в дорогу, когда получено было от Ростопчина другое письмо, в котором он сообщал, что хотя его величество и не отменяет своего распоряжения о выезде графа Литты из Петербурга в имение его супруги, но что тем не менее дозволяет ему пробыть в столице столько времени, сколько потребуется для устройства его городских дел. Литта знал, однако, что на первых порах всякая попытка об отмене сделанного разгневанным государем распоряжения будет совершенно бесполезна, а промедление, хотя бы и дозволенное, может усилить неудовольствие и подозрительность императора, а потому он поспешил поскорее выбраться из Петербурга и уехать с графиней в принадлежавшее ей богатое село Кимру.
С отъездом из Петербурга Литты деятельность его по делам мальтийского ордена прекратилась до воцарения императора Александра Павловича.
XXVI
– Я на беду мою связался с этими вероломными союзниками, с этими макиавеллистами; в них нет никакой прямоты; они в личных своих интересах заставили меня жертвовать моими войсками, – повторял с негодованием Павел Петрович, когда заходила речь об Англии или об Австрии, из которых первая так двоедушно поступала при отнятии у французов острова Мальты, а другая так вероломно держала себя во время похода русских в Италии и в Швейцарии.
Всё сумрачнее, всё подозрительнее и всё грознее становился император, и были у него для этого причины. Дела мальтийского ордена беспрестанно раздражали его. Часто переносился он в воспоминания своего детства и своей юности, когда благочестивая и воинственная Мальта так сильно увлекала его пылкое воображение и когда ему, как будто в забытьи, то чудился победный клич рыцарей-монахов на полях битв, то слышалось их молитвенное пение под сводами древнего храма. Но тогда была пора восторженных мечтаний, а теперь действительность развёртывала перед ним совершенно иную картину. Из-за мальтийских рыцарей ему приходилось горячиться, ссориться, хлопотать и вести уклончивую дипломатическую переписку, вовсе не подходившую к его прямодушию. Прежнее обаяние, навеянное на него рыцарством, постепенно исчезало, и теперь перед глазами Павла вместо доблестного рыцарства являлись происки, интриги, подкопы, заискивания, самолюбивые и корыстные расчёты. Не осуществились его мечты и о восстановлении прежних законных порядков в Европе: французские революционеры, которые, по его выражению, «фраком и круглою шляпою, сею непристойною одеждою, явно изображали своё развратное поведение», обратились теперь в бестрепетных воинов, они шли от победы к победе и грозили пронести своё торжествующее трёхцветное знамя из конца в конец по целой Европе… С горестью в сердце разочаровался император и в дружелюбии, и в признательности к нему христианских монархов: союзы, заключаемые с ними Павлом Петровичем, были крайне неудачны; и «цари», спасать которых повелевал он Суворову, оказывались теперь во мнении императора недостойными жертв, так великодушно принесённых им для восстановления и поддержания их шатких престолов.
Отказавшись от прежних своих стремлений и мечтаний, император под влиянием Грубера перешёл к другой политике.
Первый консул Французской республики Бонапарт, узнав о положении, занятом при императоре Павле Грубером, вошёл с ним в сношения. Со своей стороны Грубер писал прославившемуся победами полководцу, что он довершит свою славу восстановлением во Франции Христовой церкви и монархии, и намекал, что при таком образе действий он найдёт для себя самого надёжного союзника в особе императора Павла. Сношения эти шли так успешно, что в мае 1800 года явился в Петербург таинственный посланец первого консула, а Грубер начал выставлять императору молодого правителя Франции восстановителем религии и законных порядков. Со свойственною Павлу Петровичу пылкостью он увлекался теперь мыслью о союзе с Бонапартом против вероломной Англии, с которой и готовился начать войну за Мальту весной 1801 года.
Грубер приобретал всё более и более влияния и силы, наконец ему удалось избавиться от злейшего врага, митрополита Сестренцевича.
Однажды Грубер завёл речь с государем о том, что дома, находившиеся и ныне находящиеся на Невском проспекте и принадлежавшие церкви св. Екатерины, состоят под самым небрежным управлением; а графиня Мануцци как будто случайно проговорилась пред государем о том, что не худо было бы эту церковь со всеми её домами передать ордену иезуитов, устранив от заведования ею белое духовенство.
Сестренцевич ничего не знал об этих кознях, когда вдруг совершенно неожиданно был объявлен ему чрез генерал-прокурора указ о служении в церкви св. Екатерины одним только иезуитам, а вслед за тем митрополиту было сообщено о запрещении являться ко двору. Иезуитская партия возликовала, но ей готовилось Грубером ещё большее торжество.