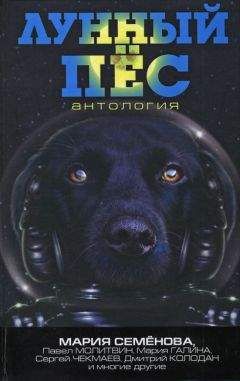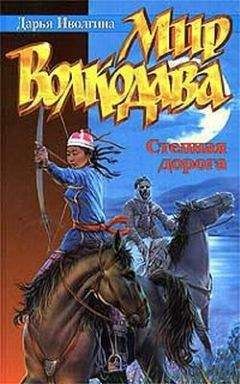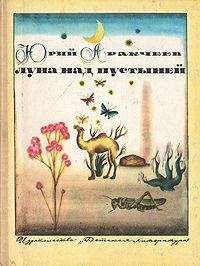Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Долго и мучительно размышлял Орлов над нечаевской историей. Заключил, что и он, Орлов, повинен перед Россией во всей этой бесовщине. Хоть и не был в темном гроте Петровского-Разумовского, а перед несчастным Иваном Ивановым тоже повинен. Несть прощения до скончания земных дней. Сострадая Сережиной участи, думал о бесчеловечности человека, оторвавшегося от бога и богочеловека. Мысленно продолжая жизнь Нечаева на путях всеобщего и страшного разрушения, был убежден Орлов, что еще не однажды, не раз бы еще прибег Сергей Геннадиевич к грубому мошенничеству, к бессовестному обману – такова судьбина каждого, кому власть достается не по наследству.
Теперь уж было Орлову пятьдесят. Отец семерых детей, добывал он хлеб насущный в поте случайных заработков. И озабочен был не мирской властью, а той, что не от мира сего. В Оптиной пустыни Тихомиров говорил Леонтьеву, что Орлов не пристал ни к толстовству, ни к философии Соловьева, нет, исповедует истинное православие. Но Тихомиров не сказал Леонтьеву, что добрый Орлов нипочем бы, ни за что и никогда не согласился бы с леонтьевским: «Любовь к человечеству есть ложь». И это она, негасимая и неутолимая любовь к простолюдину, к мужику, метала сейчас Владимира Федоровича из конца в конец огромного крестного хода, и он надолго оставлял Тихомирова вдвоем с Александровым.
Тучный Александров, часто отирая платком пухлые дряблые щеки, толстую шею и кудластую голову, ковылял, как камнем подбитый, – он был хромой.
Нынче утром, встретив у Спасских ворот редактора «Русского обозрения», Тихомиров удивился. Не тому, что бывший приват-доцент и бывший учитель младшего сына графа Толстого приковылял на молебен в Успенском соборе, а его решимости на пешее паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Удивившись, обрадовался, хотя особой близости между ними не возникало. Сотрудничая в его журнале, Тихомиров соглашался с мнением недругов: ежемесячник водянистый и пресный, словно бутылочный огурец. Зато направление твердое: монархическое, православное. А соучастие такого публициста, как Розанов, льстило. К тому же не пренебрегал Тихомиров и связями Александрова с обер-прокурором святейшего синода Победоносцевым. Главное, однако, было то, что Александров высоко чтил Леонтьева, для писем его, нескольких рукописей и книг отвел отдельный шкапик мореного дуба, читать давал не каждому; Тихомирову – охотно.
Об одиноком духовном служении Леонтьева, последних днях его и похоронах в Сергиевом посаде они сейчас и говорили, двигаясь в широкой реке крестного хода. Все бы хорошо, совсем хорошо, если б неуклюжий, хромоногий толстяк не задел Тихомирова своей неуместной пошлостью. Александров стал говорить о желании купить дом и землю близ Троице-Сергиевой лавры, чтоб уточки и курочки, да и предаться там со своей Авдотьей Тарасовной житью на лоне природы. В сущности, ничего худого в его намерении не было, но одно упоминание о супруге – громадный кус сырого мяса, поросячьи глазки и увесистые кулаки – тотчас придало всему пошлость, совершенно несовместную с минутой.
Тихомиров насупился. Но тут, слава богу, вот он, Орлов – седые волосы, беззубый, – а, право, юноша, так и бурлит впечатлениями. Полверсты шел он с приютскими девчушками. Такие умницы, все понимают, душа радуется. А воспитательница, прости господи, тощая ханжа в синих очках, жаль девчонок… Приотстав, он увидел княжну Марью Михайловну! Ну конечно, конечно, Марья Михайловна Дондукова-Корсакова! Из Питера приехала, милая. Никогда не видели? Срам, господа, это ж просто безнравственно! Сильная индивидуальность, красочная. Башмачки стоптанные, топ-топ, прелесть, прелесть. Из бо-ольших ведь аристократок, с первого взгляда определишь: черты крупные, властные, высокая. А глаза-то! Ну, княжна Марья – «Война и мир»… А странник Антоний? Слышать-то о нем слышал, а не встречал. Сибиряк, из купцов, стотысячник был, семейство было – нет, все кинул, обет дал, странствует лет тридцать. Все к нему, руку ловят, лобызают. Спрашиваю не без лукавства у мужиков и баб: да чем же он занимателен, странник-то Антоний? Наперебой: а тем, что всю твою жизнь наскрозь, как по книге, любого проницает и совет подает; ему, вишь, одних пожертвований за год понанесут пропасть, а он, вишь, вес до копейки на храмы да приюты; чудодейственный странничек, юродивенький… Идет босиком, на спине и груди вериги двухпудовые, ряса ветхая, коленкоровая, ветер кудри вьет, библейский старец. Зачинает акафисты петь преподобному Сергию, голос негромкий, но внушительный, все подпевают.
«Вот, – улыбнулся, – попрекают меня босоножием: для того, мол, чтоб внимание было. Не прекословлю, без нужды разубеждать. Пусть. Может, и вправду обличье мое у тех-то, образованных, усмешку вызывает, недоверие. Пусть. Мне-то что? Я счастье знаю. Именно с того дня знаю, как все суетное, мятежное с души сложил. Освободился. И хорошо, и спокоен. То есть не то чтобы совсем спокоен, так утверждать – гордыня, грех. Может, и не совсем еще от мирского отрешился, не совсем отринул, а стараюсь, батюшка, изо всех сил натуживаюсь. Ох, трудно глисту-то мирскую в своем чреве заморить, но стараюсь, стремлюсь. И не теряю надежду искупить свое прошлое, когда в богатстве огрузал, в чертогах живал». Высказался – и будто б застыдился, что все это он о себе, о себе. «Смотрите, – показывает, – райская птица». И точно, господа, райская! Только не глазами надо, а ушами. Взглянешь; личико-яблочко печеное, бороденочка мочалочкой, волосенки кочками, кустиками, ряса заплата на заплате, сапоги каши просят. Кто такой? А когда-то, давно, киевским послушником был. Не прижился – алкал паломничества. Во всех монастырях перебывал, всякую молитву на разный манер поет, такие fermata14 делает, монахи учатся. «Это, говорит, – мое назначение, чтоб ни постоя, ни крова. У меня, ежели на одном месте, ноги тоскуют. Коли не в ходу, нипочем страсти свои не заглушить».
Шел Тихомиров, слушал Орлова, смотрел на людей, на хмурые пашни, на хмурое небушко, чувствовал усталость, мелькал соблазн податься к какой-нибудь станции, ехать поездом, но он прогонял соблазн, смотрел, слушал, шел, радуясь всенародной процессии, растянувшейся на шесть верст.
В сумерках подходили к первому привалу, назначенному в Больших Мытищах. Чуть накрапывало. С уст на уста побежало: «Мытищинские встречают». И точно, встречали во главе с местным духовенством, готовым принять на ночь московские святыни в своем храме Владимирской божьей матери.
В сумерках, тихо и слабо окропленных дождевыми каплями, при виде еще редких огней Больших Мытищ, впереди крестного хода запел женский хор в сотни голосов: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!»
Этим огромным хором управляла, высоко вознося правую руку и сама заливаясь сильно и звонко, древняя-древняя костлявая старуха, известная не именем, а как бы по должности: Регентша. Так все и звали, так все и обращались: Регентша. Была она в байковом платке, в теплой свитке, в мужицких сапогах, с котомкой была и посохом. Давным-давно ее родительница, преставляясь, наказала доченьке не живать в городах, где одна суета и слезы, а ходить и ходить, не покидая пути-дороженьки, жить середь «странных», то бишь странствующих. Отца своего, покойника, какого-то писца-канцеляриста, старуха определяла «самоубийцей» – душу свою в винище утопил, как есть сгорел, – и Регентша смахивала слезу. Вот уж седьмой десяток лет не оставляла она пути-дороженьки.
«Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» – пел женский хор, когда крестный ход медленно втекал в Большие Мытищи.
На берегу речки под ветлами и ракитами были наскоро сколочены длинные дощатые столы и скамьи. Костры пылали под котлами, вода кипела. Торговцы съестным, все почти москвичи, распрягали лошадей и, вздыбив оглобли, вешали керосиновые фонари. У возов с караваями и сизо-багровой колбасой толпились богомольцы. Во всех окнах горели свечки.
Стемнело. Дождик покропил и умолк, ветер, холодный, с присвистом, налетая порывами, взметывал и шатал костры, раскачивал фонари на оглоблях, перемещал тени и полосы света. Вся эта картина, необычная, живая, но словно бы и выхваченная из стародавних времен, с массою лиц, фигур, телоположений, была как на заказ для жанриста, и профессор Училища живописи, поездом подоспевший в Большие Мытищи со своими учениками, тотчас потерял их – рассеялись, вооруженные альбомами и карандашами.
Горский и сам работал, пока совсем не окоченел. Ему было совестно оставлять бедняков паломников, располагавшихся вповалку на голой земле, но он все же счел за благо убраться в тепло, в чайную, где сообразил загодя вручить хозяину задаток.
Чайная была полнехонька. Не то что пройти – не пошевелиться. Даже и не поймешь, как половые, держа над головой подносы, все же лавируют в эдакой гущине. Дух стоял – топор не упадет, плотный дух запревшей одёжи, пыли, сапог, спитой заварки.