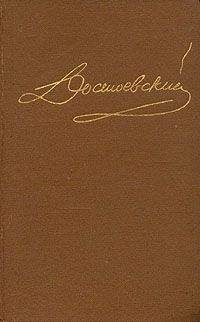Михаил Филиппов - Великий раскол
— Да как он не велит звонить, так ты прикажи…
— У меня детки и жена, — вздыхал дьякон.
— Я-то не умею трезвонить: коли бы умел, вся Москва была бы уже на ногах, — выходит из себя Зюзин.
Но вот, к прискорбию, выходит патриарх из собора, отряхает прах своих ног и уезжает.
Все это казалось Зюзину сном.
— Кажись по-русски ему писал, — скрежещет он зубами, — а он… он… что с ним сделалось?.. И голова потупела… и мужества нетути… Смиренномудрие, добродетель, но здесь просто глупость…
Он побежал домой.
— Ну, что? — спросила его жена, видя его отчаянный вид.
— Возвратился домой, бояре уговорили…
— Ну, уж не ожидала…
— Да вот что, жена… Коли бояре узнают, что я оповестил его… и он сказал, что он по извещению приехал, то быть беде…
— Какой?
— Пропаду я, как пес…
Зюзин был молод, жена была красавица и подруга царевны Татьяны.
Она любила мужа до безумия. Услышав эти страшные слова, она побледнела и воскликнула:
— Беги… беги… тотчас беги в Польшу.
— Куда бежать? Нужны деньги… да и поздно… Всюду заставы, сыщики, шиши…
— Возьми все, что в доме: золото, серебро, камни самоцветные… Беги, ради Бога.
С лихорадочною поспешностью начала она снаряжать его в путь, велела лошадей изготовить в легкий возок и заторопила его.
Зюзин решился было ехать и стал укладываться, но вдруг на него напала нерешительность.
— Дай подождать утра… Я повидаюсь кое с кем, а уехать успею… Не возьмутся же тотчас за меня.
Стало светать. Зюзин оделся и вышел из дому.
К обеду он возвратился и успокоил жену:
— Ничего, — сказал он, — не слыхать, чтобы что-либо было.
Так прошел день, и они легли спать.
Ночью до света раздался сильный стук в воротах. Зюзин и жена его одновременно проснулись.
— Кто бы смел так рано стучать, — рассердился боярин.
— Не к добру это, — молвила жена его и выскочила из кровати и начала одеваться поспешно.
Стук стал усиливаться, потом послушались голоса, стук оружия и шаги.
Вбежала барская боярыня:
— Пристав со стрельцами за боярином, — крикнула она испуганно.
— Пристав… за боярином… за ним… о… ох, — и Зюзина упала мертвая на пол.
— Голубица моя, горлица невинная, — заголосил Зюзин, бросаясь к ней и осыпая ее поцелуями. — Встань, проснись, очнись, взгляни на меня своими ясными очами, порадуй своего друга… И что я без тебя-то буду? Сиротою сиротинушкою… Скорбь лютая.
Ворвался пристав в опочивальню со стрельцами.
— Я за тобою, боярин, по государеву указу и боярскому приказу.
— Аль не видите, звери лютые? Убили вы мою жену… Дайте проститься с нею… Дайте похоронить ее с честью…
— По указу государеву иди с нами без прекословия. Похоронят боярыню и без тебя.
— Не уйду я… не покину я тела ее святого, без молитвы, честного погребения…
— Берите его, — скомандовал пристав.
Стрельцы бросились на боярина.
Тот схватил труп жены и, вцепившись в него, кричал:
— С нею берите… в одну могилу заройте.
Больше он ничего не помнил, — очнулся он в застенке на твердом ложе.
Свет едва проникал в маленькое решетчатое окошечко.
Но что это было за письмо, за которое Зюзин пострадал?
Вот что писал он Никону:
«Являлись ко мне Матвеев и Ордин-Нащокин и сказывали: 7 декабря у Евдокии, в заутреню, наедине говорил с нами царь: «Присылал ко мне патриарх архимандрита в Саввин монастырь; я его совету обрадовался — хороший архимандрит. Сидел я с ним наедине, и он со слезами говорил, чтобы нам ссоре не верить, и я с клятвою говорю, что никакой ссоре отнюдь не верю. Вот теперь, на Николин день, приезжал ко мне чернец Григорий Неронов с поносными словами всякими на патриарха. Я знаю, что с ним в заводе, — только я этому ничему не верю. А наш совет и обещание наше Господь един весть[65], и душою своею от патриарха ей я не отступен, да духовенства и синклита ради, по нашему царскому обычаю, собою мне патриарха звать нельзя и писать к нему о том, потому что он ведает, для чего ушел, а ныне, в церкви и во всем, кто ему бранит? Как пришел, так и придет, — его воля, я, ей-ей, в том ему не противен. А мне к нему нельзя о том отписать, ведая его нрав: в сердцах на бояр и архиереев и не удержится, скажет, что я ему велел приехать, или по письму моему откажет, и мне то будет, конечно, в стыд, в совете нашем будет препона, и все поставят мне то в непостоянство. А хотя и пришлю спросить в церковь для прилика, отводя подозрение и скрывая совет, и он скажет, что по своей воле, ради церковных потреб, отъезжал и опять пришел, — кто может мне возбранить? Кто мне в церкви указчик[66]? А он скажет: духовное письмо (т. е. постановление собора) давали на меня, и я им дам ответ — они сами не знают ничего, почему я ушел, почему я опять прихожу[67], а суд износят на меня не по своей мере и не по правилам: и если станут просить прощения, то на неведение их, изволили бы сказать, Бог простит! А я, — продолжал государь, — свидетеля Бога поставлю, что ему ни в чем противен не буду и душевно советую так сделать[68]. Сколько уже времени между нами продолжается несогласие. Врагу лишь в том радость, да неприятелям нашим, которые для своих прихотей не хотят, чтобы нам в совете быть. Я узнал досконально: только бы пожаловал, изволил бы патриарх прийти к 19 декабрю к заутрени в соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра, и он, наш чудотворец и посредник любви нашей, и всех врагов наших отженет. Для того пришел бы, чтобы кровь христианскую остановил вместе с нами, и его слово надобно будет во всенародное множество, и любо им, конечно, будет, и все ему за то, конечно, рады будут и послушны, а мне-то помощь от него и заступление. Да и мне надобен он душевно: начал я это ратное дело (войну) и всякие свои царственные и духовные дела вместе с ним, так чтоб Господь Бог молитвами его святительскими и совершить сподобил во благая, вместе, по совету. И ты, Афанасий[69], моим словом прикажи Никите (Зюзину) отписать ему все это тайно. А вот мне к тому числу надобно, с ним вместе, порешить, с чем отпустить тебя на посольское дело…». В заключение же государь сказал: «Но опять молю, чтоб в тишине, без больших выговоров, чтоб не ожесточил всех, — все опасаются, ждут от него жестокости. Покинул он меня в таких напастях одного, борима от видимых и невидимых врагов, а не на том между собою обещались, что до смерти друг друга не покинут, и клятва есть в том между нами».
Письмо это, по нашему мнению, святая правда, потому что в это время государство находилось в следующем положении: извне тяжкая, неудачная, разорительная война, которой и конца не видно было, так что было время, что Алексей Михайлович готов был не только возвратить всю Белоруссию, но даже и Смоленск; внутри государства — бедствия физические, голод и мор, истомление народа, его вопль и волнения, а в церкви — раскол и мятеж.
Положение было в действительности отчаянное, и можно поверить, что все это говорилось царем. Но Никон обязан был при этом приезде понять истинный смысл этого письма: ему нужно было насильно вернуться на свою кафедру и не оставлять ее более; а он в Успенском соборе выказал непростительную слабость и уступчивость, а потом некстати выдал и царя, и Матвеева, и Нащокина, и Зюзина…
Нащокин и Матвеев отказались от того, что они что-либо говорили Зюзину, но при пытке Зюзин сказал, что он Нащокину читал письмо Никона и что тот сказал хорошо. А о Матвееве он сказал, что он-де, Зюзин, не написал тем лицом, а о каком, он не сознавался.
Последнее лицо есть царевна Татьяна Михайловна, чем и объясняется скоропостижная смерть жены Зюзина. Форма же пытки была в то время такова, что Зюзина терзали до последнего, и он при этом стоял на своем и не выдал царевны.
Бояре, еще с 1662 года успевшие удалить от двора Зюзина как друга Никона, теперь обрадовались, что могут его осудить по первым пунктам уложения как мятежника и оскорбителя величества, и приговорили его к смертной казни.
О приговоре этом государь тотчас пошел сообщить царевне Татьяне Михайловне.
Он рассказал, как Зюзин и при пытке не выдал ее.
— Напрасно — один честен, а другой смиренномудрен, — патриарх смирением напакостил, а этот честностью. Меня пощадил… Хотела б я поглядеть, как бы они дерзнули царскую дочь, царскую сестру, внучку Филарета Никитича Романова, призвать к сыску и к суду… Головами они поплатились бы за дерзость… Писала я патриарху с укором, зачем-де смирился, а он отповедь дал: царя не хотел огорчить и смуту в народе завести. А о Зюзине какой твой указ?.. Жена его Богу душу отдала за нас, а его голова что ль слетит тоже за нас? За нашу шаткость?..
— Бояре шутки шутят; я его помилую, а там поглядим…