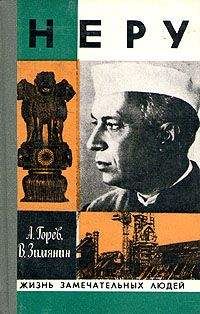Теодор Парницкий - Серебряные орлы
— И не сопровождает, отец Аарон. Не сопровождает, и пусть исходит из уст наших хвала и благодарность Христу, который не захотел затемнить рассудок нашего короля. А я так боялся, отец Аарон, ужасно боялся, что государь наш Болеслав безрассудно останется при своем решении отправиться в Рим…
— Что ты говоришь, брат Антоний? Что ты говоришь? Опомнись! — уже не сердился, а почти рыдал Аарон. — Ведь Рим пятнадцать лет ждет нетерпеливо и напрасно прибытия патриция империи! Ведь еще Сильвестр-Герберт осуждал промедление государя Болеслава… Не погневайся, брат, но еще раз спрашиваю тебя, кому ты служишь? Кому?! Ты, который не желаешь государю Болеславу, чтобы Вечный город преклонил перед ним колени! Чтобы пронесли перед ним во время торжественного шествия к Капитолию символ блистательной мощи — серебряных орлов! Если бы ты знал, брат Антоний, как сокрушаются над новым решением Болеслава все, кто с поистине любовной гордостью видят в польском княжестве верное детище Римской империи, главную опору Оттонова наследия… Если бы ты знал, как горестно стенает краковский епископ Поппо, как огорчена, до постыдных слез и страданий, государыня Рихеза, достойная наследница Оттона Чудесного…
— Так, говоришь, и они огорчены? А я-то думал, отец Аарон, что лишь явные враги нашего короля не скрывают своих слез и терзаний, ведь он не дал себя провести, не дал замутить себя серебряными побрякушками проницательный государь Болеслав. Мне известно было, что плачут на Эльбе, и на Заале, и на Шпрее, и на Мульде, и на Рейне, и даже на Мозеле, но что и на Висле плачут, этого я не провидел… Думал, что скроют в глубине души боль и стыд разочарования и не открыто заплачут.
Антоний встал и уперся руками в некрашеный дубовый стол.
— Ты уже дважды бросил мне в лицо оскорбление, отец Аарон, гневно, презрительно и подозрительно восклицая: «Кому ты служишь, брат Антоний?» Но я всего лишь скромный монах, пустынник, привык к смирению: я не был любимцем папы, так что и это унижение претерплю. Не погневайся, достопочтенный аббат, если и я в свою очередь задам тебе этот вопрос: кому ты служишь? Не отправился наш государь в Рим, и плачут от этого его заклятые враги, непримиримые враги достославного Польского королевства — явные враги, а теперь я узнаю, что и скрытые также… И ты с ними плачешь, отец Аарон. Не только с Поппо и Рихезой, но и с епископом Дитмаром, и князем Бернардом, и аббатом Рихардом, и с Одой, изгнанной мачехой Болеслава… К кому же из нас должен быть обращен этот вопрос: кому служишь? Ты или я? Я, верный слуга нашего владыки, несказанно рад и возношу благодарность мудрости божьей, что уберегла государя Болеслава от похода, из которого он наверняка бы не вернулся…
— Я служу церкви, а с согласия и совета церкви — и Болеславу, патрицию Римской империи, — ответил Аарон, с огромным удивлением вглядываясь в спокойное, холодное, будто окутанное туманом таинственности лицо Антония.
— Плохо ты ему служишь, отец Аарон.
Антоний снова сел. Убрал руки со стола и спрятал в широкие рукава богатого облачения.
— Тебе сказали, что я только из Мерзебурга?
— Сказали.
— Епископ Дитмар, который не только красиво и умно пишет, лучше всех германцев, ио и почти единственный, кто за всех них мыслит, тяжело заболел, узнав, что наш государь не отправился в Рим. И я не удивляюсь, я бы тоже разболелся на его месте. И на месте старой Оды. Она думала, что вот-вот — еще немного, и она торжественно возвратится со своими сыночками в Польшу. Ей уже виделась голова Болеслава, надетая на кол.
— Что ты говоришь? — еле переводя дух, прошептал Аарон.
— Я говорю то, что ты слышишь. Ты знаешь, зачем я в Мерзебург ездил?
— Сопровождал князя Бесприма?
— Правильно. И до тех пор не расставался с ним, пока не передал его в надежные руки. А надежные руки заполучить трудно, очень трудно. Я так боялся, что Дитмар у меня его выкрадет. Но к счастью, много еще среди саксов врагов Генриха. Каждый из них, как Генрих и Дитмар, ненавидел бы нашего государя, воевал бы с ним, действуя оружием или коварством, если бы сам взобрался на королевский или архиепископский престол, но поскольку никто из них ничем таким не располагает, то охотно услужат Болеславу, лишь бы учинить пакость Генриху. Ты знаешь, куда везут Бесприма?
Аарон, не в силах выдавить ни слова, молча покачал головой.
Антоний вновь усмехнулся.
Аарон даже вздрогнул, настолько эта усмешка напомнила ему грека, с которым он ехал в Познань.
— Его везут туда, откуда я сюда прибыл. До конца дней своих не отдалится он и на полмили от пустынной обители Ромуальда. И он, невежественный бедняга, везет письмо, которое не может прочитать, — письмо от нашего государя короля к Ромуальду. Я сам составил это письмо по приказу Болеслава, там написано, что на короля Польши снизошел дух святой и вдохновил отдать своего первородного сына служению господу. Как Исаак у Исава, отобрал Болеслав первородство у безрассудного и дерзкого Бесприма и передал Мешко, который словно Иаков, сияет красотой и мудростью.
— И так же, как Болеслава Ламберта, заключат Бесприма в обитель на всю жизнь, — вырвался из груди Аарона глухой стон.
— Нет, Болеслава Ламберта уже нет в обители Ромуальда, — вздохнул Антоний, — враги господина короля нашего помогли младшему щенку Оды бежать из подравеннских болот. А щенок этот хитрый: в отца пошел, в новокрещенца Медведя. Ты ведь знаешь, что Мешко — это и означает «медведь», ты еще не проник в славянский говор?
— Болеслав Ламберт свободен? Вот обрадуется Тимофей! — почти радостно воскликнул Аарон.
— Обрадуется? А, знаю, они когда-то водились. Но ныне, я думаю, Тимофей сам бы охотно на аркане привел Болеслава Ламберта — и уже в темницу, а не в пустынную обитель. Такой верный слуга короля, как познаньский епископ, не может не знать, какой это непримиримый, хитрый, как я уже сказал, враг нашего господина. В передаче королевской короны венгерскому Стефану его голова тоже поработала!
Перед мысленным взором Аарона предстала вдруг картина чудесного сада за домом архиепископа Равенны. А в саду аббат Астрик Анастазий под руку с Болеславом Ламбертом прохаживаются…
— А где он теперь?
— Кто? Болеслав Ламберт? Могу тебе точно сказать: в прошлый понедельник был в Кведлинбурге, навестил там свою мать. Говорил о мятеже, который вспыхнет в Польше после отъезда нашего короля в Рим. Подсчитывали всех своих сторонников и Беспримовых тоже. С радостью говорили, что почти все роды кметов среди полян, вислян и поморцев с готовностью поддержат мятеж, лишь бы только начался. Одни весьма злы на Болеслава за то, что тот отменил право младших братьев на отцовское наследие, другие будут драться за Бесприма, за нерушимость первородства… Шептались, что за Беспримом пойдут все те, кто явно или тайно держатся веры отцов, ненавидя епископов и аббатов. Ты слышишь, отец Аарон? Набожная монахиня и послушник из обители Ромуальда возлагают свои надежды на язычников! И еще решали, что сделают с Болеславом, когда вернутся в Польское королевство. Старуха Ода так жаждет его головы, что Болеслав Ламберт сказал: «Ослепим его, как он Одилена и Прибивоя, наших верных сторонников, ослепил. А впрочем, государыня матушка, думаю, что король Генрих, когда узнает, что Польша поднялась против Болеслава, сразу в Риме его схватит и до конца дней заточит в башне Теодориха».
Аарон недоверчиво улыбнулся:
— Откуда ты можешь знать, о чем они шептались у себя в монастырской келье в Кведлинбурге?
— Это не я знаю, а наш король. Он все знает.
Аарон вздрогпул. Снова припомнился грек.
— Для преданных и чутких ушей нет слишком толстых стен, — вновь усмехнулся Антоний. — Это только ты, отец Аарон, не имеешь бдительных ушей и глаз, хотя, может быть, и преданы они, как ты говоришь, королю… Слезы государыни Рихезы затуманили не ее глаза, а твои… И не только глаза, а и мысли затмили… Правду говорю тебе: великое было бы это несчастье, если бы Болеслав больше сознавал себя римским патрицием, чем польским королем… если бы отправился с Генрихом в Рим… Увидел бы он тогда сквозь последний туман в глазах себя, меня, Тимофея надетых на колья, язычниками вытесанные…
— Нет! — крикнул Аарон. — Нет, не верю я тебе… Выдумываешь или блуждаешь во тьме, все более ужасной… Дело польского княжества и дело Римской империи, дело Оттонова наследия — это все одно и то же! Не гибель церкви в Польше от рук язычников, а повое благословение божье принес бы поход патриция Болеслава в Рим! Не темница, а почести ожидают нашего государя во всемирном городе! В славе и мощи прилетели бы с Капитолия к Вавелю серебряные орлы!
— Подбили бы их по дороге из франкских и саксонских луков, открутили бы раненым головы…
— Не только Рихеза, достойная наследница Оттона Чудесного, любящая государя Болеслава и так гордящаяся его патрициатом, но и сам Мешко, любимый сын Болеслава, очень сокрушался, что не отправился отец в Рим и не побывают серебряные орлы на степах Капитолия…