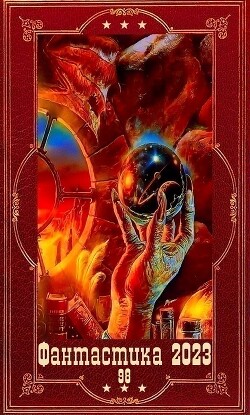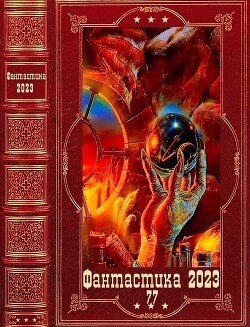Прорыв под Сталинградом - Герлах Генрих
– Дальше… Безнадежных вынесем в коридоры. Тогда освободится место для других, – отвечает врач и, увидев недоумение на лице коллеги, тихо добавляет. – Смерть от холода легкая…
Ближе к вечеру Херберт пробирается в здание с черного хода. Но Гайбеля в комнате не находит. Вещей тоже. Как в воду канули парнишка на вшивом одеяле и бредивший офицер. На их месте лежат другие, при виде новых увечий подступает тошнота.
– Сверху! – говорит карлик, по-прежнему восседающий на своих одеялах, и показывает на потолок. – Мина залетела. Где остальные? – он пожимает плечами. – Понятия не имею. Забрали сегодня днем.
Херберт рыщет, как зверь, по всему зданию. В темном ледяном коридоре наталкивается на бредившего. Тот еще жив, напевает и смеется себе под нос. Находится и парнишка. Кто-то отобрал у него одеяло, сапоги и шинель тоже. Он уже окоченел… Но Гайбеля нет нигде.
Снова стало морозно и ясно. Время от времени отблеск тусклого зимнего солнца падал через зарешеченное окно, к которому приставили кусок грязного стекла. Рядом непременно кто-то дежурил и, когда на улице разрывались тяжелые минометные снаряды, придерживал стекло. С тупой регулярностью били всегда в одно и то же место: на дорогу перед домом и во двор. После того как коварные снаряды, летящие без предупреждающего гула, многих ранили осколками и двоих убили (один из несчастных – фельдфебель Гёрц – искал в брошенной машине съестное), на улицу выбирались только в крайнем случае. Айхерту и фельдшеру осточертели ежедневные рейды к раненым, обретавшимся в соседних подвалах, – их обитатели справляли насущные потребности буквально на пороге. Так образовалась гладкая как зеркало заледеневшая каша, на которой уже двое ночью сломали ноги. Когда Бройер казал наружу нос, он испытывал тревожное чувство. Красные силуэты разрушенного дома напротив всякий раз заметно менялись. То зияла новая дыра, то не хватало целого этажа. Однажды в воздухе повисла целая меблированная комната, с кроватями и картинами, – эдакая театральная декорация. Но провисела она недолго! Уже совсем скоро на ее месте торчало лишь несколько каменных зубцов. Двор покрывал толстый слой кирпично-известковой пыли, а горы обломков росли все выше и выше. Город погружался в землю. Казалось, распад всего, что сотворено человеком, в иное время происходивший медленно и для обычного глаза незаметно, вдруг сделался видимым, словно прокручиваясь в режиме неумолимой ускоренной съемки.
Вместе с солнцем появилась авиация. По тусклой голубой глади неба заскользили будто ко всему безучастные маленькие далекие точки, бледные и прозрачные, как вши, которых снимаешь с рубашки. Но внизу свистели и завывали бомбы, оставляя новые рваные раны на кровоточащем теле города. Они разрывались среди голых стен, лязгающих балок и листового железа разрушенных цехов – и этот грохот, в сотни раз усиленный жуткими раскатами эха, сотрясал руины домов и разбитые души людей. По ночам было спокойнее. По ночам воздух наполнялся гудением транспортных самолетов, круживших на малой высоте – словно гигантские летучие мыши, мелькали их тени под звездами. Повсюду вспыхивали сигнальные ракеты, и невидимые дозорные нервно прочесывали глазами небо в поисках раскачивающихся маятниками парашютов-призраков, они прислушивались, где – близко ли, далеко ли – ударялись о землю контейнеры с продовольствием, на розыски которых немедленно отправлялись усердные поисковые команды, а также отчаявшиеся мародеры. Паек предназначался только тем, кто еще мог и хотел воевать. Раненые офицеры сидели в подвалах и молчали. Каждый думал о своем и, мысленно прощаясь с прошлым, тихо вопрошал: “Что же теперь?” В дровах недостатка не было – кругом стояли руины. И плита жарила бесперебойно. На ней всегда дымился котелок с кофе. Запасов зерен оставалось еще предостаточно, напиток насыщал и подкреплял. Время от времени Янкун, всеобщий любимец начфин, извлекал на свет божий консервную банку. Хлеба почти не осталось. Все делили поровну.
– Берите, пока еще есть небольшие резервы, – говорил Айхерт гостям. – Чем богаты, тем и рады.
Бройер благодарил. Не заученной формулой: “Позвольте, господин капитан, выразить вам свою глубокую благодарность”. Он просто говорил: “Большое спасибо, господин Айхерт!” И никому не казалось это странным. Все изменилось.
Лейтенант Дирк, окруженный теперь всеобщей заботой – неутомимый фельдшер буквально не спускал с него глаз, – мало-помалу стал участвовать в том, что происходило вокруг. Но его односложные машинальные ответы приводили собеседников в отчаяние. Почти все время он спал. Измученная плоть после многонедельных пыток теперь требовала свое, и по праву. Когда в соседней комнате фельдфебель Гёрц, на котором осколки не оставили живого места, вел тяжкую борьбу со смертью, Дирк сидел рядом и гладил его руку. Однажды он схватил Бройера за рукав и в ужасе посмотрел ему в глаза, словно искал ответа.
– Фюрер… – шептал он, – целая армия… и он ничем не может помочь! Какой страшный для него удар…
Когда пошли первые слухи о прорыве котла и сокрушительном разгроме в южной части города, снова разгорелся жаркий спор. Дивизии на южном берегу реки Царицы якобы самовольно сложили оружие. Распоряжения сверху больше не поступали. Армию охватило молчание. Приказ “сражаться до последнего патрона” оставался в силе, но на его выполнении уже никто не настаивал. Да и было ли кому настаивать?
– Это конец, – подвел итог Айхерт. – Если кто хочет дать деру, попытать счастья и пробиться через окружение или еще что… пожалуйста, я больше никого не держу. Меня лично, считай, уже нет. В плен я не собираюсь.
– Что значит “нет”? Даже думать об этом не смей, – запротестовал начфин. – Не съедят же нас русские, в самом деле. А Сибирь, говорят, красивый край. Там многие мотали свой срок после прошлой войны, кто-то и до сих пор живет. На худой конец, можно сбежать в Манчжурию или в Индию. Нет, пока есть хоть малейший шанс… Покончить со всем всегда успеешь!
– Плен равносилен смерти, это младенцу понятно! – заявил лейтенант Бонте. – Зачем себя мучить, если проще отделаться малой кровью?
Бонте с товарищами решил пробиваться. Он верил в свою звезду, поскольку прострелено было только предплечье.
– То, что пишет Паулюс, – ложь, – с уверенностью заявил Бройер. – Его приказ от первой буквы до последней – сплошная жалкая ложь! Мне доводилось беседовать с русскими, со многими из них, включая офицеров из высших штабов. Они обращаются с пленными по-человечески. Другой вопрос: переживем ли мы плен после стольких недель голода. Но надругаться или убивать определенно никого не будут, поверьте.
Ночью поднялось большое волнение. Финдайзен, ходивший по нужде, вернулся запыхавшийся:
– Там, снаужи… скоей, скоей… Пям тут у нас, щёрез ороху, пижемлилса!
Он видел, как опустился парашют с продовольствием. Поисковая команда выступила без промедления. И уже через несколько минут приволокла в подвал мешок хлеба.
– Ну, ребятки, в нашем хозяйстве солидный приход! – воскликнул Айхерт. – Хоть наедимся напоследок от пуза! Вот наши люди удивятся.
Сброшенное с воздуха довольствие надлежало немедленно передавать по назначению. За неисполнение приказа – смертная казнь…
Пятьдесят буханок поделили. На каждого из Айхертовой команды пришлось по четвертинке. Чуть позже во время спонтанного ночного пира, когда жевали хлеб за обе щеки, явился безмерно взвинченный казначей в сопровождении двух полевых жандармов.
– Вы укрыли контейнер с довольствием, не поставив никого в известность! – он подозрительно сверлил взглядом жующие лица.
– Все верно, – ответил Айхерт. – И что?
– В районе, где приземлился груз, стоит наша дивизия. Я требую немедленной его выдачи!
– Продовольствие останется здесь, – спокойно ответил Айхерт, но в глазах его сверкнули угрожающие искорки. – Наши люди так же любят хлеб, как и ваши!
Казначея затрясло от злости.
– Значит, вы отказываетесь? – заорал он. – В таком случае я прикажу вас арестовать. Вы прекрасно знаете, что вам грозит!