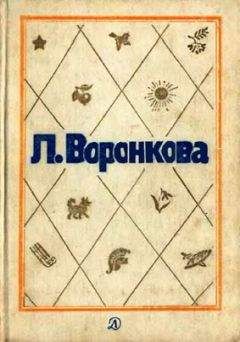Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
Этот маленький дворец принадлежит первой богачке города, пароходчице Коробовой. С дома только недавно сняли чехлы, и вот — роскошное создание столичных архитекторов — дом гордо встал на углу главной улицы. Таких домов в наших краях еще никто не строил, и потому весь город ходил смотреть на него.
Вдруг на лестнице появилась приземистая женщина, вся какая-то пестрая, широкая, растрепанная, как большой рыхлый узел с тряпьем.
— Ва-аня-я-я! — крикнула она зычным контральто. — Ва-аня-я-я!
— Тута я, Лизавет Иванна, тута я.
Высокий круглолицый парень с черными курчавыми усами, в белом садовничьем фартуке и в франтовских сапогах с лаковыми голенищами спешил к хозяйке.
— Что-с прикажете, Лизавета Иванна?
Хозяйка с грубой лаской шлепнула его ладонью по широкой спине.
— У-у, ты… оглашенный… Песок-то привезли?
Она была отовсюду видна, нелепая, разбухшая, как перина. Ее измятая и грязная оранжевая шелковая шаль, наброшенная на выцветший ситцевый капот, ее расшитые «золотой ниткой», но такие же неопрятные шлепанцы, ее небрежно зашпиленные на затылке белобрысые волосы, плоский в веснушках нос, мясистое лицо с грубо отвисшей нижней губой — все это было непереносимо и оскорбительно до предела. А она, будто никого не замечая, принялась бранить садовника за то, что он переплатил за песок какие-то копейки. Потом, переваливаясь, как жаба, пароходчица подошла к диванчику, похожему на большую веерообразную раковину, нажала на кнопку — и радужный зонт с мелодическим свистом поднялся над ее белобрысой головой. Открыв рот, еще не остывший от бранных слов, пароходчица принялась щелкать орехи. Она во все стороны бросала скорлупу, неопрятная, вызывающая, как бы говоря каждым своим движением: «Мое! Что хочу, то и делаю… Мое!»
За ней наблюдали с обостренным вниманием, которое с каждой минутой все сильнее переходило в злобу. Слово за словом припоминали, как десять лет назад покойный Коробов сжег и потопил (сотни людей погибли!) один из старых своих пароходов, дрянную посудину, за которую ухитрился получить огромную сумму страховых. Припомнили и другие аховые дела: Коробовы оттягали наследство от племянников-сирот и выгнали их из дома. Они же, Коробовы, высудили пенсии и пособия у вдов сорока грузчиков, погибших на спешных ремонтных работах в затоне. Уже будучи вдовой, Коробова сумела «заручить» на свои береговые склады тысячи сажен дров казенного лесничества, напоив плотовщиков. Очнувшись, бедняги пробовали было разоблачить обман, но были чуть не до смерти избиты, а двое «старших», главных ответчиков перед казной, в тот же день повесились в конюшне на постоялом дворе.
Припомнили также давние и упорные слухи о том, что сама Коробова, рыбацкая дочка, в молодости не однажды «подрабатывала» на ярмарке в Нижнем, там и женила на себе старика Коробова. Говорили, что он умер «во благовремении», так как она при помощи своих «дружков» от нетерпенья могла бы очень ловко помочь ему «убраться» раньше срока. После смерти мужа, став от пьянства и обжорства рыхлой и безобразной, она приблизила к себе — об этом знал весь город — бывшего своего грузчика, «кабацкую головушку», Ваньку Окуня, который «для виду» числился садовником. Кто-то начал злорадно пророчить Ваньке «хозяйскую власть», а другие продолжили: если у Ваньки «власти» не будет, чего доброго, однажды глухой ночкой задушит он свою благодетельницу, ухватит некую толику, прокрадется по черной лестнице — и был таков. А потом по парадной лестнице вынесут тяжелый купеческий гроб. Нетерпеливые родственники и следственные лица пойдут в первых рядах пышных похорон с архиерейским хором и прожорливой оравой нищих.
Дому же предрекали позор и гибель, он был ненавистен, гадок, несмотря на своих богинь и фонтаны. Он был неотделим от всей этой жестокой, пропахшей кровью и потом силы денег. Эта сила бесстыдно выражала себя в виде растрепанной бабищи, которая сидела под радужным зонтом, как наглый и дурацкий идол.
Вдруг, повернув голову к своему садовнику, она сказала ленивым и добрым голосом:
— Пыли-то, сору-то сколько к дому нанесли… Как ты и терпишь, Ваня… Ох-хо…
Ванька Окунь, безгласно зверея румяным черноусым лицом, шагнул куда-то в сторону — и вдруг, перебросившись через кружевную решетку, в толпу ударила упругая струя холодной, как лед, воды. Толпа рассыпалась. Многие бросились бежать, как будто их предали. И, оглядываясь на мокрые камни враждебной улицы, все проклинали это разбойничье гнездо, призывали на него позор, разорение, огонь, все бедствия мира.
Через четверть века я в группе людей стою под стенами нового дома. Люди, закинув головы, смотрят вверх и потом, улыбаясь, трут себе шеи: ничего себе домик! Одиннадцать этажей со стороны Охотного ряда да четырнадцать — с улицы Горького…
— Чтобы на такую гору подняться, сколько сот ступенек надо прошагать?
— А шагать-то зачем? Вот чудак! К твоим услугам будет целая серия лифтов.
— Ну и высотища, братцы!
— Это мы только сейчас удивляемся, а вот погоди, как дома в двадцать-то пять этажей строить будут!
Усмехаясь, я вспомнила оторопь российской провинции перед купеческим Трианоном. На него сейчас посмотрели бы мельком, а то и совсем не заметили бы. Да и те школьники, или вузовцы, или служащие какого-либо треста, которые находятся сейчас в бывшем коробовском доме, даже и не подумают хоть сколько-нибудь изумляться ему: вокруг них старые русские города тоже расправляют плечи, чистятся, украшаются. Многоэтажные дома возникают на месте пустырей, домиков с мезонинчиками. А может быть, бывшего коробовского дома больше и нет на свете. Молодые планировщики и архитекторы, мечтающие не о компромиссах, а о решительном изменении городского пейзажа, посмотрят на это купеческое рококо и, не задумываясь, вынесут ему приговор:
— Чертовски мешает, да и ценности никакой: игрушка, кондитерское изделие.
И новый городской пейзаж, рослый, просторный, с площадями и широкими улицами, с пышной зеленью скверов и парков, пойдет в наступление. Он обоснуется вокруг тех мест, где совсем бесполезно скучали на полукруглой лестнице богини и музы и где, потешая стрелами своего любовного колчана белобрысую Коробиху и ее Ваньку Окуня, выбрасывал веселые струи фонтана ожиревший амур.
Но только ли в размерах дело? Какие-нибудь Рябушинские. Коноваловы и Терещенки, не произойди Октябрьской революции, «сгрохали» бы «собственный небоскреб» — не отставать же «от людей». И отчего-де, черт подери, «раз в жизни» себе не позволить?.. Уж как бы и где бы торчало сие сооружение, одинокий дом-верзила, — гадать мне не хочется, просто каждый метр его стены орал бы: «Хочу — и есть такое дело, и мы не хуже людей, и мы с небоскребом-с»..
«Нет, не в размерах только дело», — думаю я, взирая на каменную громадину. И не в стиле только, и не в выражении только. Дом чист. Ни зависть, ни собственнические вожделения, ни злоба, ни проклятья не оскверняют его. Он чист. Он не служит кому-либо одному, обогащая его и усиливая его власть над людьми. Дом возникает предо мной как часть общего жизненного плана, в который включена и моя жизнь.
Вот и сбылась твоя дорожная песня, путиловец… Если и нет тебя на свете, дети твои вспоминают ее соленый задор и дерзкий припев: «Наша возьмет»… И вот оно, твое «наше взяла», старый сосед моей юности…
Не может быть никакого сомнения, что ты совсем иначе отнесся бы к этой улице, не так, как в свое время к Невскому. Прежде всего ты одобрил бы работу истории, завоеванной тобой, детьми твоими и братьями по труду и битвам.
Вот сквозь ребра лесов уже проступают очертания мощных площадей дома, его перекрытий, бетонных столбов, будущих галерей, балконов и башен; а одиннадцатиэтажный фасад, занявший всю линию бывших охотнорядских лавок и лабазов, уже готовится, как в песне поется, «показать лицо свое белое»… Да, вот оно такое и есть… Белые гладкие мраморные плитки, теплые под солнцем, как ладонь ребенка, покрывают его стены. Видишь белую колоннаду над Москвой на высоте одиннадцатого этажа?! Поднимемся туда. Небо так и хлынет на тебя со всех сторон. В просветы колоннады небо несется навстречу голубизной такой силы и прозрачности, что кажется, тебе стоит только руку протянуть и схватить его, как плод с ветки.
Мы смотрим вниз, на Москву, в самом разгаре ее рабочего полдня. Люди движутся, сходятся, рассыпаются, как фигурки в мультипликационном фильме. За круглым, как пятачок, сквериком скромно притаился похожий на детскую копилку Большой театр, а над его фронтоном позеленевший мальчик Аполлон с волшебной своей колесницей. Да и сама площадь Свердлова отсюда мала и тесна, как блюдце, — здесь, на просторе, даже удивительно смотреть, как распутывается эта сутолока человеческих толп, трамваев, грузовиков, троллейбусов, автобусов. Отсюда мечтается о завтрашней Москве как об одном из вечных городов мира. Уже совсем недалеко то время, когда Москву будут не только славословить по обычаю международной любезности путешественников: она будет сниться во сне, как бессмертные создания великих мастеров. Ее обширные площади будут восхищать, как величественные озера, которые могут держать на себе большие суда. Ее широкие прямые улицы, от конца до конца братски поделившие между собой зелень, цветы и архитектурные красоты, будут возникать в сознании, как благородные символы и образцы равенства и справедливости.