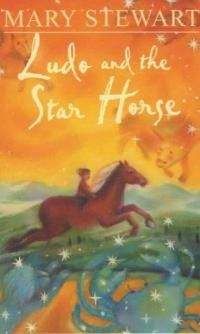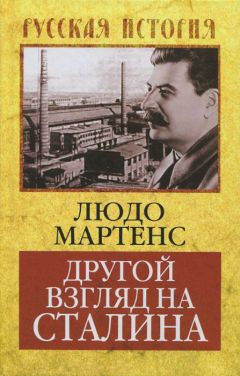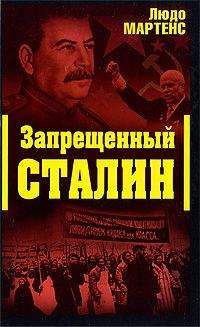Людо Зубек - Доктор Есениус
— Как же это могло произойти? Почему? — тихо спрашивал Михаловиц.
Этот вопрос тревожил всех.
— Почему? — подхватил Будовец, оглядывая всех.
Младший священник Катус, который пришел с патером Липпахом, перестал молиться на другом конце камеры и приблизился к столу, за которым сидел Будовец.
— Это за наши ошибки и прегрешения, — медленно и значительно произнес Будовец. — Мы не постигли всего величия задачи, которую возложили на себя.
— Зачем обвинять себя, если мы хорошо знаем, что всему виной венгры, которые обратились в бегство чуть ли не с начала Белогорской битвы, — быстро возразил Михаловиц.
— И это наша вина, что венгры обратились в бегство, — с грустью отвечал Будовец, глядя прямо перед собой, точно перед ним серела не сырая, обшарпанная стена, а как будто он видел перед собой даль, видел клубок, в котором переплетены нити причин и следствий всех событий. — Это наша вина, что венгры бежали и что, кроме мораван, никто не сражался с одушевлением. Что им до нашей победы? Ничего. Им нужны деньги. А раз мы им не платили, на что большее нам надеяться? Мы забыли о народе — в этом наша тягчайшая вина, в этом наше заблуждение.
Да, теперь это признали и остальные. Они начали восстание без народа, они решали судьбы страны без участия народа — и вот как все кончилось.
— Если бы мы могли исправить свою вину! — со вздохом сказал Криштоф Гарант.
— Исправить невозможно, мы можем только понести наказание, — ответил Будовец.
— Бог простит нам вины наши, совершенные ведомо и неведомо, — тихо проговорил Михаловиц.
— Пусть простят нам те, кто за наши ошибки и заблуждения понесет расплату в будущем, — добавил Будовец, осеняя себя крестом. Он поднял глаза: — Господи, ослепи дух мой, дабы не узрел я тех бед, кои должны обрушиться на мою родину…
О еде не думал никто. И все же, когда прислуга рихтара пришла спросить, что приготовить на ужин, не отказались. Хотелось подкрепить свои силы перед завтрашним «выходом», чтобы ослабевшее тело не предало их гордый дух. Ибо они, не сговариваясь, преисполнились твердой решимости: не проявить ни малейшей слабости и умереть твердо и с достоинством.
После трапезы священники вновь приступили к исполнению своего долга. Они переходили из одного помещения в другое, стараясь ободрить приговоренных, беседовали с ними и пели псалмы. Когда их надрывающие душу молитвы кончились и наступила тишина, пан Криштоф Гарант в последний раз рассказал о том, что видел он в святой земле.
Теперь они остались одни. После наступления темноты ушли последние посетители. Остались только священники и стража. И стража была захвачена торжественно-горестным чувством. Увидев, что осужденные отрешились от всего светского и никто из них не помышляет о бегстве, они оставили свои алебарды и, преклонив колени на холодном полу коридора, молились и пели вместе с осужденными.
Часы на башне пробили полночь, и их чистый бой выделялся на фоне другого звука, который до сих пор заглушался песнопениями и громкими молитвами. Только теперь они поняли, что означает этот другой звук — непрерывный тупой стук где-то снаружи, — который проникал через приотворенные оконца, через переходы, даже через толстые стены: это плотники строили помост. Большую сцену, где разыграется последнее действие трагедии.
Стук молотков напоминает им, что они подошли к концу пути.
Возвышение, которое воздвигают там на площади, — это мост, по которому они перейдут из жизни в смерть.
— Возлюбленные други мои, — обращается к ним Будовец, — используем последние оставшиеся нам часы для отдохновения души и тела. Не для того, чтобы удовлетворить грешные требования плоти, но для того, чтобы собрать силы для завтрашнего великого испытания…
Улеглись кто где попало и попытались уснуть.
И Есениус старался уснуть. Но сон не шел к нему.
Теперь, когда напряжение ослабело и он перестал бороться с теми страшными представлениями, которые неотступно стояли перед глазами, его охватил озноб.
Всю силу воли напрягает он, чтобы призвать последний сон, в котором еще можно ощутить свое бытие. Завтра он уснет долгим, вечным сном. И во имя этой великой минуты он жаждет запастись силами. Он обращается к своему любимому Лукрецию и на границе бдения и сна повторяет его слова.
Смерть говорит:
«Что тебя, смертный, гнетет и тревожит безмерно печалью
Горькою? Что изнываешь и плачешь при мысля о смерти?
Ведь коль минувшая жизнь пошла тебе впрок перед этим
И не напрасно прошли и исчезли все ее блага.
Будто в пробитый сосуд налитые, утекши бесследно.
Что ж не уходишь, как гость, пресыщенный пиршеством жизни,
И не вкушаешь, глупец, равнодушно покой безмятежный?
Если же все достоянье твое растеклось и погибло,
В тягость вся жизнь тебе стала, — к чему же ты ищешь прибавки,
Раз она так же опять пропадет и задаром исчезнет,
А не положишь конца этой жизни и всем ее мукам?
Нет у меня ничего, что тебе смастерить и придумать
Я бы в утеху могла: остается извечно все то же…»
— Остается извечно все то же, — повторяет он, успокоенный и примиренный с жизнью. — Круг замыкается…
ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
Наступил рассвет последнего дня.
Часы на башне Староместской ратуши торжественно отбили пять ударов. С последним прокричал петух, встречая рождающийся день радостным приветом. Но в то же время скелет с песочными часами в руке зазвонил в свой колокольчик — колокольчик этот извещал об умирающем. И в этот день колокольчик означал, что готовятся в последнюю дорогу осужденные, для которых этот незабываемый рассвет 21 июня года 1621 станет последним.
По Граду прокатился пушечный выстрел.
На Староместской площади началась казнь.
Вчера еще пражский народ не верил, что это возможно. До последней минуты все ожидали чуда. Эту веру поддерживали передаваемые шепотом известия о всевозможных знамениях. Многие были убеждены, что разверзнутся небеса и прольется из них кровь и сера; что Влтава потечет вспять; что разверзнется земля и поглотит всех противников церкви Христовой… Даже приговоренные надеялись, что не все еще потеряно. Хотя ночью не было дождя, на восходе солнца над крышами староместских домов засверкала чудесная яркая радуга.
— Не теряйте надежды, маловерные, — старались вселить друг в друга мужество приговоренные, указывая на это удивительное явление. — Господь наш милостивый улыбается нам.
А на площади все уже было готово к кровавому зрелищу. Перед ратушей возвышался построенный за ночь помост, обтянутый черным сукном. Помост был продолговатый, широкий, в четыре локтя высотой. Как сцена большого театра. Если бы помост стоял не перед ратушей, а на другом конце площади, против Тынского храма, прохожий, не знающий о том, что должно произойти, мог бы подумать, что готовятся к представлению страстей Христовых. Большое распятие только утвердило бы его в этой мысли, — если бы не зловещие фигуры в черных плащах, которые стояли перед крестом. Их было семеро. Счастливое число. Но от этой живой черной семерки сегодня никто не ожидал счастья… Стоящий у края помоста держал перед собой большой наточенный меч, острие которого опиралось о помост и достигало груди черной фигуры. Это был палач Ян Мыдларж со своими шестью подмастерьями. У них куколи закрывали всю голову, только впереди были прорезаны отверстия для глаз. Лицо Мыдларжа было открыто.
Он стоял на помосте, как каменное изваяние, обратившись лицом к фасаду ратуши, где на специально приготовленном месте сидели императорские рихтары всех трех частей Праги — Нового Места, Старого Места и Малой Страны — вместе с членами городского самоуправления — гласными. У помоста, в два ряда, — солдаты с поднятыми алебардами. За солдатами — народ. Народу собралось столько, что яблоку негде было упасть. Каждому хотелось стоять ближе. И тем, кто стоял впереди — а они пришли еще ночью, чтобы занять места, — приходилось выдерживать натиск задних рядов. Вся площадь была заполнена людьми. Но и на прилегающих улицах толпился народ. Железная и Целетная улицы были наиболее многолюдны — оттуда еще кое-что было видно. Но самые лучшие места были у тех, кто жил на самой Староместской площади. Из окон на первом и втором этажах владельцы домов, их родные и знакомые следили за ужасным зрелищем. А крыши — вотчина воробьев — заняты были мальчишками — учениками ремесленников и подмастерьями. Даже из бойниц на башнях Тынского храма высовывались головы…
Приговоренные находились еще в здании ратуши, готовые к казни. Они сняли со своего платья воротники, чтобы палачу легче было рубить голову. Все громко молились, повторяя слова священников, окружавших их.