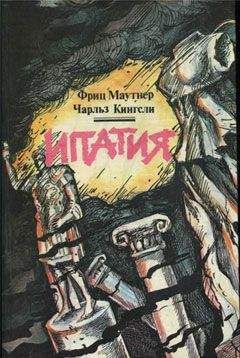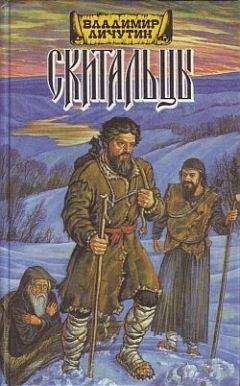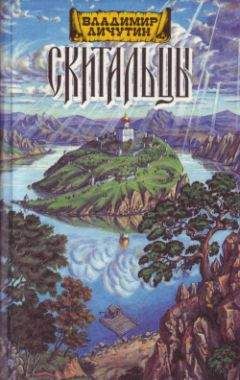Владимир Личутин - Скитальцы
– Дай срок, – смилостивившись, отозвался Король. – Я ему глаз на причинное место натяну.
– Как из тюрьмы выйду, стану один воровать. Сам-то себя никогда не продашь, верно? – повысил голос Зубов, и вся камера невольно прислушалась. – Одному-то куда боле с руки. Чего хочу, то и ворочу.
– А я постоянно один ворую, – сухо, гордовато сказал Король. – Одному куда свычнее.
– И я бы один, да вот нет хорошего приемщика. Ты бы стал принимать, а я носить. Вот бы и зажили.
– Чего, и стану. Что хошь приноси.
– И по рукам. Как выйду из тюрьмы, стану один воровать и тебе носить. А чего лучше всего воровать и сходнее?
– Всего сходнее, кабыть, воровать чай. Я его много, приятель, ворую во время ярманки. Почитай, целыми яшшыками.
– А почем ты мне положишь, любезный? – настроился Зубов на деловой лад. Словно бы осталось ему встать да пойти в торговые ряды, присмотреться тайно, что где лежит, смекнувши хорошо, затырить, а дуван в карман: живи – не хочу.
– По кругу коли, так шестьдесят копеек за фунт. Только тебе, как другу.
– Дешево... Эдак мы никак не столкуемся. Если я одноглазый, то и вполцены? Не-не... воруй сам. Вот ты не поскупись да положи по семьдесят копеек за фунт, вот и стану носить.
– Дороже давать никак нельзя. Это себе в убыток да порядошным людям в насмешку...
Часа полтора еще тянулся ровный ленивый разговор, каждому не хотелось подымать голоса, но впусте молотили воздух, благо время шло: обсуждали два вора, как лучше обирать магазины и лавки, как сподручнее обмануть приказчика, обвести купца, оставить с носом торговца, чтобы и комар носу не подточил. На глазах у камеры строилась будущая компания и тут же рушилась, не причинивши никому убытку. Только беглый поп, бросив петь каноны, не стерпел более дерзкого сговора и бросился увещевать грешников:
– Отступитеся! Добывайте же хлеб насущный в поте лица своего.
Трудно было взывать к падшей расхристанной братии, душа Старкова еще невольно и смутно сочилась слезою, и порванная распухшая губа причиняла боль, и чтобы ловчее говорить, Старков приоглаживал пегую клочковатую бороду. Потому и слово выходило тухлое, неживое и слабо волновало, пробуждало сердце. На воле-то порою уж как смешон праведник, как надоеден, ибо постоянно дозорит за вашим сердцем, не дает насладиться жизнью и свободно окунуться в пороки. Потому нет-нет да и бросят вослед камнем. А тут, в камере, где каждый почти испытал искус падения и нашел в нем некую тайную прелесть, беглый раскольничий поп казался непонятным больным человеком, полным придури, коего слушали лишь от скуки и тюремного томленья, чтобы занять часы.
– Это не по нас, – оскалился Король. – По нас дак вот... Кто веселый уродился, тот и с горем не знаком. Аль нет?
– Скаль зубы-ти, скаль! А там-то сатана скажет: любил ты, паря, на белом свете по чужим кладовым шариться, а теперя, мои подручные, отведите-ка его в баньку огневую да положите на ложе огненное. Вот и поведут тебя черти, сукин сын, да и напарят горящими вениками, раскладут на раскаленном ложе да окунут в огненный колодезь. Больно хорошо?
Но не успел Король и рта раскрыть, как Симагин заговорил: начал потухше, глухо, но без сбоинки, как с листа читал, будто по писаному, такой ловкий мужичонко оказался и скорый на язык. Вроде бы дворовый человек, неоткуда и грамоте взяться, но не запнется на слове: знать, искусен в споре и поднаторел.
– Ты, Старков, скажи-ка лучше. А что Исус твой сказал нащет птиц?
– Он о людях пекся...
– Не знаешь... Так и скажи нам, дескать, простите, не знаю, – торжествующе поднял голос Симагин. – Ты вроде о народе печешься, если вкруговую обнять твои мысли и подойти всерьез. Но сулишь, однако, пещь огненную и все грозишь, грози-ишь. А ты, Старков, вызволенья от нужды на сей земле посули, ты не скупись, братец. А Исус нащет птиц небесныих сказал так: взгляните на птиц небесныих, кто питает их? Но эти, братья твои, падшие во грехе, разве не птицы ли?
– Давай, давай... воров возвеличим. Падших в ангелы призовем, – горько потряс Старков пальцем.
– И призовем. И последний станет первым.
– Последний, но раскаявшийся. Ты вот забрось промысел воровской да вериги одень, цепями окуй да в рубище оденься и поди по Руси, взывая радостно: братцы, исцелился я.
– Обман все, твой Христос. – Симагин поднялся с кровати, и глаза его, обычно оловянные, сонные, прояснились. Такие, наверное, прозрачные глаза были у Симагина в детстве, пока не познали душевных страданий. – Христос – обманщик: не беспокойтесь, говорит, что будете есть и пить, ни о том, во что облачено ваше тело. Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день позаботится сам о себе. А как те, кто капиталы скопили, кто шкуры ваши спустили, кто, кровь вашу выпив, развратные животы нынче лечат на теплых водах? Они пошто не каются, пошто они не боятся ада, где корчиться им и купаться в огненном колодезе. Кабы все было так, они бы уж давно, наверное, одели вериги и рабов своих пораспустили, отдавши землю. Да в ножки, кабыть, пали бы, дескать, простите, век молиться за вас станем, кормильцы дорогие. Дак нет же, мало того, что шкуры с нас живых снимают, дак взяли манер, должно быть, от Иосифовых братьев, которые продали брата своего Иосифа в Египет. Вот и господа, которые продают нашего брата, играют роль Июды... Бедные черви, по земле пресмыкающиеся! И неужель вы не чувствуете тягости вашего мучения... А оттого и не боятся господа, что все враки, а они, промотавши наш труд, над нами же и смеются, сочиняя такие враки. Молчи! Молчи! – грозно упредил Симагин, заметив нерешительное намерение Старкова перебить.
Неожиданно в камере потускнело, посерело, зарешеченное оконце завесило мрачным пологом, лица едва проступали в сутемках. И оттого, что надвинулась потемень, души особенно раскованно и желанно внимали каждому слову, находили его своим, необычным и желанным. Никто вроде бы не трогался со своих лежбищ, многие лежали на койках, прилепившись телом к истертому одеяльцу, но сердцу становилось невозможно и настолько тесно и маетно, что хотелось немедленно мщенья, огня, воли и крови.
Старков, бывший невдали от Симагина, даже в сумерках особым душевным зрением увидал, как исковеркалось судорогою изможденное, испепеленное лицо, и, невольно потупившись, сокрушенно пожалел сожителя: «Боже праведный, как тяжело, кабыть, гневному, растерянному человеку. К пропасти мчит и не ведает пути гибельного». Доната Богошкова слова захлестывали, и он словно бы выпрямлялся от необычности их: вот воскликни сейчас Симагин, дескать, поди за мной, вьюнош, и Донат не колеблясь, словно слепой и зачарованный, преданно пошел бы служить проповеднику.
– Ты вот скажи, Старков, нищей братии, чтобы она успокоилась. Скажи: ада нету, не-ту-у! Слышите меня? И рая нету! И все придумка, врака богатых развратников, чтобы лучше творить свои утехи. Они-то хитрые, они знают, что там ничего нету, а вы, дурачье, слушаетесь господ да мучаетесь покорно, как бараны бестолковые. Иль взять вон Евангелье. Оно повествует о чудесном Рождении Христа. Для чего же? А для того только, чтобы быть мучиму и распяту на кресте и чтобы весь род человеческий пострадал подобно ему. Только он мучился, может быть, двенадцать часов, а весь род человеческий должен мучиться 1829 лет и семь месяцев. Хорошо же он над нами подшутил! Мы носим на себе его крестное знамение только за то, что вывел он нас из одного заблужденья и ввергнул во вторую напасть, не меньше ужасную. И велел нам всем мучиться, то есть терпите, на том свете заплатят... А душа твоя, Старков, о которой ты так печешься, во время твоего издыхания останется в воздухе и превратится в ничто. Знайте же, братцы, что аду и раю нету, да никогда и не бывало, а истинный ад тут, на земле, и в нем мы ежечасно пребываем до самой кончины...
– Несчастный, замолкни! – возопил Старков. – Да как не поразит тебя гром небесный! Если бы все на миру истинно мечтали попасть в Царствие Небесное, то давно бы это царствие, этот рай устроился на земле. Вы сами не хотите этого рая, са-ми...
– Вот, вот... Жирные никогда не захотят сравняться с тощими. А значит, обман все и ересь. Слушайте, братцы, я вам несу новый свет. – Симагин захлебнулся, и весьма вовремя, ибо загремел ключ в двери и появился надзиратель, высоко вздымая фонарь над головою и подозрительно разглядывая камеру.
Что-то, видно, он уловил смущающее, разлитое в самом загустевшем воздухе, и, подсчитав наличие арестантов по головам, закричал придушенно:
– Пошто без света? Пошто впотемни без дозволенья?
– Безумец, – прошептал Старков, жалея новоявленного проповедника.
Вот, казалось, снизошла монаршья милость, простили человека, достали из соловецкого мешка и повезли в Сибирь на высылку. Худо-хорошо, но все-таки по-человечьи жить можно, дом завести, жену, там и дети пойдут. А он как с веревки сорвался, вон куда занесло, беднягу. А если донесут, если найдется суконное рыло, гугнивый наушник, захотевший подзаработать на ближнем? Поди, есть такой? Без наушника ни одна камера не живет.