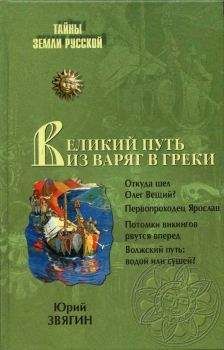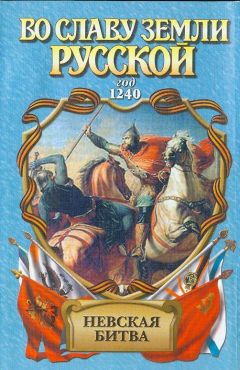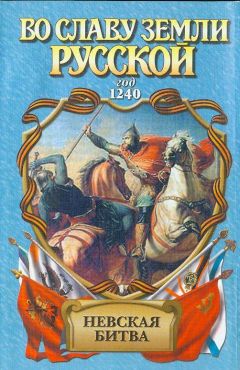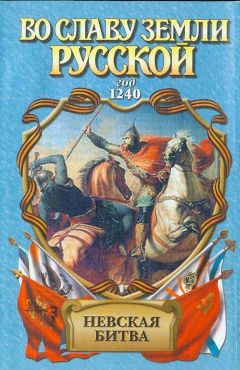Овидий Горчаков - Вне закона
До последней секунды стараюсь не смотреть в упор на рыжего. Мне кажется, он сможет почувствовать на себе мой взгляд, забеспокоиться. Рукава закатаны у него выше локтя. Замечаю стальные часы с браслетом. Пригодятся. Мои что-то сильно отстают. На пилотке у рыжего — серебряный орел и черно-бело-красная кокарда, настоящая трехцветная мишень. Я вижу ее в кольце намушника. Мушка замирает чуть ниже кокарды. Ненадежно. Ниже, до края пилотки... Не промазать бы! Унтер-офицерские петлицы, погоны младшего фельдфебеля... Еще ниже... Над правым карманом распластал крылья имперский орел. Взять чуть правей. Ого! Продетая в петлю лента Железного креста второго класса... Задерживаю дыхание, плавно, медленно нажимаю на спусковой крючок. Выстрел! Отдача в плечо... Рыжий жутко скалит зубы. Трещит Володькин автомат. Его немцы падают, падают, катятся котелки. Один выгибает спину, будто
«мостик» хочет сделать. Теперь того, очкастого!.. Промазал. Очкастый, выпустив из рук котелки, ныряет в кювет... Десять пуль, одна за другой — четыре трупа на шоссе. Из кювета на той стороне шоссе истошно зовет на помощь очкастый. Полицаи тоже забрались в кювет и стреляют куда попало, еще не видя нас. Они трусы, а этот очкастый штабс-ефрейтор храбрый солдат, черт бы его побрал! Загалдели и там, где беспрерывно тарахтит трактор. По шоссе несется легковушка. Она резко тормозит. Очкастый отстреливается. Пытаюсь сосчитать его выстрелы, чтобы приподняться и прицелиться, когда кончится у него обойма. Мешают Володькины очереди. Разрывные хлопают над головой или рвутся, ударяясь о срубленные сосны, за которыми мы лежим. Летят, колют щеки колючки коры. Щелкунов бросает «эфку». Крики все громче. Позади — одни сосны, без подлеска. Приходится убегать, петляя, под пулями...
Что ж, четыре гитлеровца за четыре минуты тоже неплохо, пусть у них почти наверняка и сказано в солдатских книжках: «Годен только для гарнизонной службы...»
Управляющий вышел после допроса из штабного шалаша и очутился лицом к лицу с плотной стеной молча поджидавших его партизан. Он затравленно огляделся, шагнул вперед, но толпа не дрогнула, не расступилась. Упитанное лицо «Геринга» окончательно утратило свой здоровый румянец, обвисли щеки, резче обозначились скулы. Глаза — мутные, больные от страха... За плотно сомкнутыми побелевшими губами мелко подрагивала челюсть. Капелька пота скользнула и повисла на мясистом носу. Он неловко снял шляпу и вытер ладонью жирный бритый затылок.
В глазах партизан он увидел свою собственную смерть, свой приговор. В глазах этих он прочел ненависть и тоскливое недоумение.
Что заставило тебя пойти против власти, сделавшей тебя человеком, спрашивали эти глаза, против власти, вознесшей тебя над такими, как мы, простыми тружениками? Трусость? Корысть? Привычка к хорошей жизни? Значит, и в советское время работал ты за блага, а не за совесть? Разве может смерть твоя искупить твое преступление перед нами? Это мы сделали тебя тем, чем ты был, а ты обманул нас, надругался над нашим доверием. Так-то отплатил ты свой долг перед нами — твоим народом?
— А еще в шляпе! Небось жирный оклад, паразит, загребал до войны,— проговорил честный сребролюбец Сандрак.
— Бифштексы, ростбифы,— усмехнулся Боков.
И в этих словах прозвучало непоколебимое убеждение простого человека: чем больше получал ты от страны в мирное время, тем больше должна быть отдача твоя на войне. А нет, так тем тяжелее ты должен быть наказан. Вот Сандрак и товарищи его — вот такие простые люди делали революцию, сражались в гражданку, строили страну по кирпичику и защищают ее, не щадя жизни, сейчас. А такие, как ты, умели ладить с начальством, делали карьеру, примазывались и присасывались к нам, лебезили перед высшими, помыкали низшими. Ты сорняк, оттягивавший на себя животворные соки!
Ни пощады, ни тени сочувствия не нашел предатель в неумолимых глазах партизан. И он понял — это конец.
Подошел к толпе распаренный повар в фартуке, с половником. Поглядел, сплюнул и сказал буднично и беспощадно:
— Кончайте, ребята! Суп стынет. Мировецкий, с бараниной!..
3
Вечером я снова встретил Щелкунова на кухне. Он был мрачен и неразговорчив, плохо, нехотя ел. Задумываясь, переставал жевать и сидел, бессмысленно глядя в котелок с картофельным супом.
— Не отставай, а то все слопаю! — предупредил я его. Он сунул ложку за голенище, царапнул острым, пытливым взглядом.
— Никому не скажешь? — Он понизил голос и, не сводя глаз с Самсонова, погруженного в изучение висевшей на дереве школьной карты Советского Союза, прошептал: — Ездил утром в Пчельню. Расспросил людей о Кузенкове. И знаешь, ничего плохого о нем они сказать не могли. Одна связная там бывшая Богомаза расплакалась, не понимает, за что мы его, а я ничего объяснить не могу. Голова ходуном! О Кузенкове говорит, что после гибели Богомаза к нему зачастил какой-то партизан из леса, куда-то ходили они вместе, а потом пришел Кузенков однажды страшно расстроенный и белый как снег и сказал связной, что он, дескать, в Могилев поедет. Она так поняла, что он хотел подпольщикам о гибели Богомаза сообщить. Но в тот вечер, Витя, он сначала прибежал в наш лагерь, а мы его... Конечно, я выполнял приказ, но я... я не могу понять, за что я убил Кузенкова?!
«Кто-то был связан с Кузенковым? — спрашиваю я себя. — Не Покатило ли?»
Самсонов оторвался от карты, прислушался к девичьему смеху, доносившемуся из шалашей санчасти и, одернув гимнастерку, повернул туда, припадая на ушибленную ногу. Щелкунов проводил его изумленным, ненавидящим и одновременно просительным взглядом, словно призывал его все объяснить, успокоить...
— Жора! — капризным голосом позвала Ольга из штабного шалаша.
— Иду, иду! — крикнул Самсонов. — Ефимов собрался? Баня остынет...
— Кузенков!.. — пробормотал Владимир. — Камнем лег ты у меня на сердце.
Я провел языком по пересохшему нёбу. Самсонов убил Кузенкова за то, что Кузенков не поверил в клевету, не поверил, что Богомаз изменник, потому что Кузенков выяснил каким-то образом, возможно, кто убил Богомаза. Но я не могу открыть Щелкунову глаза на правду. Он слишком горяч, он испортит все дело. Он погибнет, как Кузенков. Или убьет Самсонова. Тогда Володьку растерзают наши партизаны. Ведь они верят в командира — видят в нем посланца Большой земли, ничего не знают о его преступлениях.
— Что воды в рот набрал? — в смятении спросил Щелкунов. — Говори! Что ты знаешь?
Я и Самсонова спрошу...
— Ничего я не знаю. — Так тяжело прятать, скрывать, таиться от друга... — Одно скажу: в расстрелах этих семь раз отмерь. Ты расскажешь обо всем на Большой земле. А к Самсонову не приставай — пусть лучше Самсонов на Большой земле объяснит, почему он убил Кузенкова.
В лесной вечерней полутьме Щелкунов долго и пристально смотрел мне в глаза.
— Ладно,— сказал он, тяжко вздохнув. — А коли я не доживу, ты расскажешь.
Обязательно. Обещаешь? Эх, видно, навсегда застрял у меня в ушах его крик: «За что?!»
Семь раз отмерь..
Ночью нас разбудила длинная автоматная очередь. Богданов, спавший рядом со мной в шалаше, заворочался. В темноте зашевелились партизаны нашей группы.
— Какой там... палит в лагере? — пробормотал Богданов, выбираясь из шалаша. — Ну, я его... — Минуты через две он вернулся и сообщил: — Начальство куражится. Капитан, Ефимов и Суворов из Александрова на машине приехали. Часовой, раззява, дрыхал на посту. Местный, из Смолицы, кажись. Порядки наши плохо знает, да и не спал прошлую ночь. Они его пристрелили по пьяной лавочке. Не проснулся даже...
Никто не сказал ни слова. Богданов улегся, шепнув мне на ухо:
— От капитана самогоном попахивает. В первый раз это он. После баньки, правда. Дело, конечно, законное. Парня жаль. Да-а-а, видать, далеко пойдет Самсоныч наш! Как танк «КВ» прет. — Богданов вздохнул покорно, беззлобно. — А нашим братом он дорожку себе гатит...
Скрипнув зубами, я стал выбираться из шалаша.
— Ты куда? — спросил Богданов.
Я не ответил. У штабного шалаша — громкий говор. Я подошел ближе, стиснул кулаки, сцепил зубы...
— Я еще раз заявляю, никуда ты не уйдешь! — услышал я голос Самсонова.
— Сделаешь командиром шестого отряда — не уйду,— торговался Иванов. — Не сделаешь — уйду. Самогонкой меня не купишь. Моя рация...
— А в самом деле, Жора, рация-то его, — с подначкой сказал Ефимов.
— И я такое про тебя, Георгий, могу в Москву передать!..
— Молчи! Плевать мне на тебя... У меня бригада, люди, большое дело, а у тебя, Иванов?.. Не хочешь по-хорошему...
Ефимов осветил меня фонарем.
— Ты что здесь шатаешься? — строго и трезво спросил меня Самсонов.
Не. я шатаюсь... Вы убили... Я слышал очередь...
— Да, я убил подлеца, заснувшего на посту! — преспокойно заявил Самсонов. — Другим наука.