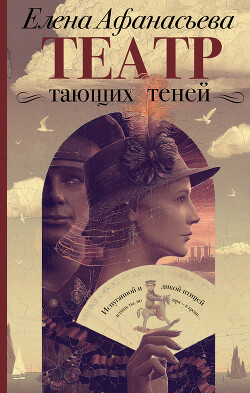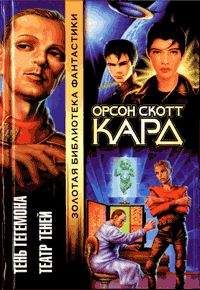Театр тающих теней. Словами гения - Афанасьева Елена
Мокрая ладонь того безликого, который со сладостным «фадистом» пришел? И второго безликого ладонь — вспомнила, что в ней задело! Указательный палец без одной фаланги.
От них тревога пошла? Нет, от них просто противно стало, не больше, как всегда становится противно от присутствия надзирателей в студии.
Тревога случилась раньше. Почему входила в студию нормально, а представляя Эйсебио, уже почти задыхалась? Что произошло за полторы минуты от гримерки до начала эфира?
Мысленно вернуться назад, оттянуть только что застегнутую бархотку от горла, поперхнуться от лака, которым костюмерша-гримерша истово поливает укладку. Скинуть вязаную кофту, в которой сидела, чтобы не войти в кадр с гусиной кожей на открытых плечах, дойти до студии, перекинуться парой реплик с еще трезвым оператором за третьей камерой, краем глаза следить за эфирным монитором, на котором заканчивается документальный фильм о Салазаре — в наступающем 1974-м ему исполнилось бы восемьдесят пять, проверить эфирную папку…
Стоп!
Вот она, тревога! Паника. Удушье!
Фильм о Салазаре.
Последние кадры — монтаж фотографий и кадров разных лет. И последних — совсем пожилого, но еще премьера, когда она сама писала тексты не выходящих в эфир выпусков новостей, созданных для единственного зрителя. И средних лет сухого строгого диктатора, которого она помнила с детства. И более молодого, вполне импозантного, но уже лидера нации, снятого еще до ее рождения…
Показалось! Не может же такого быть! Она бы знала! Показалось.
Показалось, что в кадрах Салазара в оперной ложе за спиной диктатора стоит…
— Эва! Я же просил поторопиться! — Директор, уже в пальто, идет по коридору навстречу. — Еще же доехать! Нельзя опаздывать!
— Фильм… К юбилею Салазара… — Она снова почти задыхается.
— Что фильм? Прошел. До твоего эфира. Без замечаний. Все завизировано. В аппарате премьера проверяли. Ты еще без пальто, хотя сегодня лучше бы манто!
— Мне нужно посмотреть этот фильм. Сейчас.
— С ума сошла!
— Не весь фильм. Только финал…
— Ты приглашена! На правительственный прием! Во дворец Келуш! Фильм посмотришь после праздника.
Директор все еще думает, что у нее блажь, капризы после тяжелого эфира. Но Эва, обойдя директора как препятствие, почти бежит в сторону аппаратной, в которой до сдачи в архив хранится все, что вышло в эфир. Сегодня праздник, не работающих на трансляции сотрудников отпустили с середины дня, ее эфир был позже. Бобина с фильмом должна быть где-то в аппаратной.
— Эва!!! Да что же ты будешь делать! — Директор Гонсальвеш бежит следом, понимая, что его самого пригласили в Келуш только вместе со звездой телевидения и один, без Эвы, он на приеме никому не интересен.
Аппаратная большой студии уже закрыта, прямой эфир закончен, запись концерта идет в эфир из аппаратной малой студии. Бобина с фильмом осталась в большой.
— Ключ! У кого ключ?! Ключ можете найти скорее, черт побери! Куда его можно было деть за три минуты?! Я же только что вышла из студии! Там еще были люди!
— Не кричи! Ушли все! Новый год через час! И если мы не доедем… — Директор начинает чесать ладони.
— Не кричу! Мне нужен ключ! И вас с наступающим Новым годом, только найдите мне ключ. Имею я право получить ключ или нет?! Как не имею?! Мне нужен ключ! Никуда не поеду, пока не посмотрю! Почему так долго несут?! Почему замок заедает, неужели нельзя поменять на двери замок?! Не настолько уж плохи дела в экономике страны, чтобы главная телестанция не могла поменять замок на двери аппаратной главной студии! Или настолько? А если он однажды заест, а я буду внутри и не смогу выйти в эфир, кто виноват будет?! Вы интервью с начальником Генерального штаба Кошта Гомишем будете вести?! Не собираюсь я сейчас вести интервью с Гомишем. Да собираюсь я на ваш прием! Хорошо, не на ваш! Мне нужно только посмотреть последние кадры фильма! Кто-нибудь может зарядить бобину?! Может хоть кто-нибудь на главной телестанции страны зарядить в аппарат фильм и перемотать его на последнюю минуту?! Слава тебе господи, операторы нормальные люди, все умеют! И тебя с наступающим! Нет, выпить с вами не могу! Не могу никак выпить! Заряди, пожалуйста! Перемотать на начало явно еще не успели, там только минуту отмотать обратно! Не чешите ладони, директор! Расчесанными до крови руками здороваться с премьер-министром неприлично! Я только посмотрю… Нет, этого я в студии еще не видела, чуть дальше. Да-да. Отсюда. На замедленное воспроизведение поставить можете?
Салазар на трибуне. Салазар за рабочим столом. Коимбра, кадры родного университета, куда диктатор каждый год посылал письмо ректору с просьбой продлить ему отпуск в связи с исполнением обязанностей премьер-министра. Салазар серьезный. Салазар улыбается. Салазар — любитель оперы на открытии сезона 1940 года в ложе, чуть сзади молодая женщина, смутно похожая на…
— Стоп! Я не кричу! Я прошу сделать стоп-кадр! А увеличить можно?! Увеличить изображение на целой телестанции кто-то способен?! Да-да! Еще чуть. Да… да… И пустить замедленно.
Ледяной диктатор. Тридцать пять лет у власти. Самый закрытый человек мира. В опере. За плечом его молодая женщина…
Мама…
В том же платье, как на фото, которое стоит дома на подаренном ей Эвой телевизоре.
Кадр за кадром на замеленном просмотре диктатор Салазар медленно, очень медленно протягивает в сторону мамы правую руку.
И на его руке хорошо видно кольцо. Старинной вязи. С крупным камнем — в черно-белой кинохронике не виден цвет.
Эва медленно переводит взгляд от экрана на свою руку. И обратно на экран.
На экране на мизинце диктатора кольцо. С камнем, который в черно-белой съемке кажется черным. И который на деле кроваво-красный.
Кольцо, которое на ее среднем пальце сейчас!
О, счастливчик!
Он — счастливчик. В последний момент судьба всегда переворачивается так, что вытаскивает его из самых безнадежных ситуаций. Даже когда кажется, что все плохо, тьма, провал, он сам точно знает, что могло быть намного хуже, несравнимо хуже. И что так судьба спасает его.
Мог умереть в детстве, стань он в тот раз не сзади Раби, а впереди него.
Могло ему, восемнадцатилетнему, оторвать руку или ногу в Битве на Эбро.
А сколько раз могли убить в том невероятном месиве, в котором ни франкисты, ни республиканцы не могли подсчитать потери, сбивались на десятках тысяч убитых и раненых.
И сколько раз могли пристрелить или прирезать из-за угла.
Но каждый раз судьба останавливала его в шаге от смерти.
Он родился в Португальской Индии. Гоанка Мария — смуглая кожа, черные глаза — приглянулась его отцу, голубоглазому колониальному офицеру Жозе Монтейру.
Дальше все должно было быть как у всех — мало ли смуглых детей с голубыми глазами бегает по гоанским трущобам! Признавать внебрачных отпрысков офицеры во все века не спешили. Мог и он всю жизнь прозябать в трущобах. Но отец оказался сторонником идей лузотропикализма [2], с гордостью говорил об особой миссии Португалии в колониях, их особом в отличие от Британии и Нидерландов колониальном пути: жаркая Португалия лучше осваивает свои южные территории, чем холодные северные страны, португальцам легче устраивать там свою жизнь, и этнически они ближе завоеванным народам, лучше их понимают и не довлеют, а грамотно управляют. И браки с местными жителями тому свидетельство, — говорил португальский офицер Монтейру и женился на гоанке Марии.
Так еще до рождения Казимиру повезло в первый раз, когда он не стал бастардом в трущобах, а рос законным сыном португальского народа.
Портрет дальнего предка, сколько он себя помнил, висел в гостиной, и мать несколько раз в год протирала раму темного дерева уксусом, чтобы от влажности не заводился грибок. Отец сажал маленького Казимируша в гостиной и снова и снова рассказывал про предка, который в 1820 году защищал идеи абсолютизма, против временной жунты и созванных кортесов с их конституцией, присягнуть которой заставили даже короля Жуана VI. Но предок выступил за принца Мигела Брагансского, которого в ходе мигелистских войн и привел на престол и сам первый присягнул королю Мигелу I.