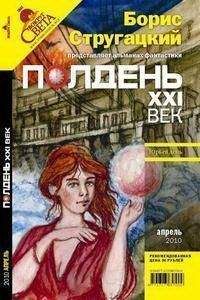Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк или Язык для потерпевших кораблекрушение
Вот и началось! — весело подумал Иван.
И угадал.
Десятник, каким-то своим особенным звериным, наверное, сибирским чутьем правду почувствовал и, почти не оборачиваясь, внезапно поймал за ухо человека с носом-рулем и уже своим, выхваченным из-за пояса ножичком, коротко отхватил ему ухо. Почти по корень. «Вишь, носатый, — сказал обиженно, показывая отрезанное ухо своему приятелю. — Что удумал! Пуговицы красть!»
— Да ты што!.. Да ты што!.. — опоздав, растерялся вор. Одной рукой он зажимал обильно сочившуюся кровью рану, другой протягивал казаку пуговки. — Да вот они твои пуговки, пошутил я… Пришей пуговицы обратно…
— Ну, тогда и ты пришей! — не оборачиваясь, десятник бросил обидчику отрезанное ухо.
С того и началось.
Первым, как следовало ожидать, пострадал одноухий. Его сразу чем-то ударили, — болезного всегда поучить полезно. Самого Ивана завалили под стол, там и лежал, пока наверху над ним ломали столы и лавки. А хуже всего получилось с десятником: когда стража набежала, он портретом Усатого, строгим государевым портретом, дерзко сорванным со стены, отмахивался от ярыжек, решивших его убить. Понятно, слово государево крикнули. Десятника увели, и спутника его увели, и носатого-одноухого увели, из ранее пьянствовавших кто сам по себе разбежался, а кого вышибли за дверь. А Ивана хозяин пожалел — узнал его. Когда все ушли, попинал сапогом: «Вылазь из-под стола… И с глаз долой!.». И самолично выбил Ивана из кабака, запустив вслед казачьим мешком. Убирайся, мол, и борошнишко свое забирай! Решил, наверное, что мешок принадлежал Ивану.
А у Ивана сил не нашлось.
Как упал, так и лежал на улице.
Тогда хозяин вернулся, сочувственно выгреб из кармана последние денежки, и опять же от доброго сердца телегу нанял: отвезите, мол, болезного в Мокрушину слободу, к домику соломенной вдовы Саплиной.
Ивана и привезли. Вместе с чужим мешком. И сейчас, после слов доброй вдовы, Ивана ледяным холодком обдало. Что в том мешке? И где теперь тот казачий десятник?
Глава III. «А веры там никакой…»
— Да ты, голубчик, совсем бледный, — изумилась вдова. — Сядь на лавку, сделай милость, не дай Господь, упадешь. — И пожаловалась: — Вот день какой! Сперва кликушу, странницу божью, существо убогое бьет падучая, теперь ты сильно бледнеешь. — И обернулась к окнам террасы, прислушалась к некоему новому сильному шуму, родившемуся во дворе, даже удивленно прижала ладонь к тому месту на грудях, где билось доброе вдовье сердце: — Кто же так рано изволят быть? — Даже красивым ротиком шевельнула, на коем когда-то сам государь поцелуй сердешный запечатлел.
Иван не успел ответить. По ржанию сытых лошадей, по особенному стуку коляски, вдова сама догадалась:
— Так это ж Кузьма Петрович! Дьяк думный!
Не сказала — брат родной, или как-то еще, а именно так — дьяк думный, и уважительно по батюшке, подчеркнув тем особенное уважение к старшему брату, сама побледнела даже:
— Вдруг привез весточку от маиора? А, Ванюша? Зачем молчишь? Ты ведь знавал Сибирь. Может оттуль донестись какая-то весточка?
— Может, матушка, — кивнул Иван.
А вдова от неожиданной мысли вдруг всплеснула руками:
— Ванюша, голубчик! Ну, зачем ездят в Сибирь? Это ж так далеко! Там, наверное, и народов не существует таких, чтобы к ним надобность была ехать. Всякие нехристи, агаряне, язычники. Я слышала, что они все поныне глупы — золота не приемлют, деревянным харям молятся, лепят идолов из глины. Ну, зачем туда ехать?
— А земли государевы расширять? Разве ж, матушка, не обязаны мы преуспеть в расширении земель государевых? — довольно мрачно ответил Иван, хотя сердце его, наконец, дрогнуло — ведь не может так быть, ведь совсем не может так быть, чтобы родная сестра ничем не встретила брата, пусть даже утром! Да поставит она наливку!.. Дожить бы… И несколько веселея от такой мысли, от души пожалел далекого, потерянного в Сибири неукротимого маиора Саплина: его, небось, давно съели дикующие… Не могли не съесть… Пусть маиор и мал ростом, только голодному и от малого откусить всегда найдется…
Вслух однако сказал:
— Нынче государь многого хочет, Елизавета Петровна. У него на все обширный взгляд. Кузьма Петрович говорил, что даже особенное посольство на двух фрегатах посылают на остров Мадагаскар к пиратам. Хотят принять пиратов в русское подданство, пускай наладят торговлю с Индией. — Сам не понимал, что несет: — Может, уплыли уже фрегаты.
— Страсти какие! — испуганно перекрестилась вдова, с жалостью разглядывая Ивана. Она понимала причину его бледности, но не шла навстречу, хотела по доброте преподать Ивану урок. — Ох, да с чем думный дьяк пожаловали? С какой новостью? — Крикнула громко: — Нюшка! Неси померанцевую!.. И анисовую неси!..
Объяснила, понизив стыдливо голос, будто секрет:
— Кузьма Петрович любит анисовую.
Хотела добавить — как государь, но забоялась.
— И индюшку неси!.. Индюшку взгрей!.. — крикнула. — И неси паштеты, грибки, яблоки моченые!.. Нюшка!.. — Укорила Ивана: — Это ты путаешь девку. Она смеется невпопад и в голове одни глупости… — И заговорила, заговорила, руки прижимая к грудям, ясно, без всяких обиняков показывая, что в их разговоре главное: — Вот земли, говоришь, расширять. Да разве мало у нас земель? И в ту сторону лежат, и в эту, и в другую! К соседям под Москву съездить, и то, подумай, сколько дён надо! Мыслимо ли иметь такую страну?
— Нельзя не расширять, — уже увереннее возразил Иван. У него даже плечи слегка расправились. — Страна живет, пока расширяется. Посмотрите, сколько указов издано государем в последние годы, и все о Сибири! О прииске новых землиц, о серебряных рудах, о не продаже крепкого винца в ведрах… — Спохватился. — Да и души живые!.. Вы же сами подумайте, матушка Елизавета Петровна, кому-то надо эти души спасать! Ведь пока не было в Сибири веры христианской, никто на всей той огромной земле от сотворения мира не слыхивал гласа псаломского.
Теперь, когда девка Нюшка, глупо хихикая в ладошку, выставила на стол и анисовку и померанцевую, Ивана внезапно пробило потом. От слабости, от собственного ничтожества, конечно. Незаметно перекрестился и сказал сам себе — все! Сейчас сниму ужасную тяжесть с сердца, и все! Ни глотка больше! Никогда! Не надо мне больше ничего такого. Никаких этих наливок не надо, никакого винца. Только один глоток. Сейчас. Для общего здоровья… Но, конечно, большой глоток, на всякий случай поправил он себя. Единый не сокрушит.
У него даже во рту пересохло. Больше никогда в жизни ни в один кабак ни ногой! Вообще ни в один! — твердо решил. Ни по каким праздникам! Сейчас сделаю один глоток и — все! Отныне буду жить тихо, мирно, ни в чем не обманывая добрую вдову. Это ж как хорошо тихо жить! — обрадовался он. Зима, к примеру. Снег упадет. Холод такой, что птички мерзнут на лету, разбиваются о дорогу, как стеклянные, а в деревянном дому соломенной вдовы Елизаветы Петровны тепло, печи истоплены. При огне можно неспешно беседовать с доброй вдовой. О неукротимом маиоре Саплине, потерявшемся в ужасной Сибири, о разных чудных вещах, о знамениях божьих, о звездах с хвостами. А можно вслух читать книгу «Хронограф». Вдова любит, когда ей читают вслух. Добрая вдова живо представляет себе далекое. Ей читаешь, а она все как будто перед собой видит. Будто прямо перед нею открываются пространства… Вот пробивается сквозь снега маиор верхом на олене, как на рогатом коне, и стрелы дикующих густо летят… О чем бы ни читал Иван, добрая вдова все приводила к неукротимому маиору.
Один глоток, и все! Начну новую жизнь — тихую, пристойную. В канцелярии думного дьяка много столов, шкапов, шкапчиков, полок; из всех тайных мест выброшу припрятанные шкалики, чтобы не было соблазнов. Или отдам те шкалики подьячим. В каждом шкапу теперь, как положено, буду хранить только маппы и книги.
Даже жаром обдало Ивана от таких добрых мыслей.
Ясно представил. За окнами дождь, сырость, гниль, а может, мороз, стужа, зато в канцелярии сухо, тепло. На столах и на лавках развернуты чертежи далеких земель и морей, даже тех земель и морей, что пока известны только по слухам. Толмачи шевелят губами, писари скрипят перьями — одни перекладывают на русский немецкие да голландские книги, другие переносят на чистые листы разные куншты, чертежи, маппы. А он, Иван Крестинин, особенный дьяк, занимается совсем особенным чертежом — секретным огромным подробнейшим, на котором указаны все пути, ведущие в Сибирь, и дальше Сибири.
Повел плечом, возбуждаясь. Он, как Иван Кириллович Кирилов, дождется своего часа. Иван Кириллович начинал когда-то в Ельце простым подьячим, а теперь сенатский секретарь. Усатый умеет подбирать к делу людей. Лучшие в России маппы на сегодня вычерчены Иваном Кирилловичем. Когда Усатому однажды понадобилась большая и точная маппа сибирских земель, из-за того, что китайцы и русские начали ссориться из-за перебещиков-мунгалов, именно Иван Кириллович рано утром положил перед государем нужную подробную маппу, выполнив ее всего за одну ночь.