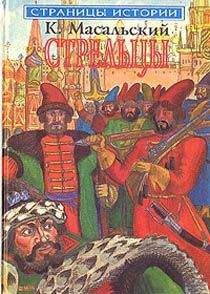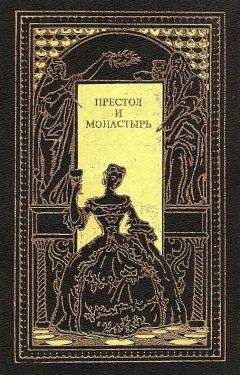Константин Масальский - Стрельцы
Василий, подойдя к перилам, начал вдали отыскивать взором дом купца Лаптева. Если кто-нибудь из читателей наших (о читательницах говорить не смеем) бывал влюблен и когда-нибудь смотрел с колокольни или башни на город, то он верно знает, что всего скорее обращаются глаза в ту сторону, где живет любимый человек. С трудом рассмотрев в отдалении дом Лаптева, Василий начал напрягать зрение, думая: не увидит ли окон верхней светлицы и кого-нибудь у окошка? Однако ж и весь дом едва был виден, и потому неудивительно, что Василий понапрасну напрягал зрение, погружаясь между тем все более и более в приятную задумчивость и, наконец, глядя во все глаза на обширную Москву, вместо города увидел пред собою образ своей Натальи, если не в самом деле, то по крайней мере в воображении. Тем временем Чермной выдумывал средство, как бы избавиться от безотвязного пономаря, который, побрякивая ключами и показывая пальцем колокольни разных московских церквей, говорил:
— Погляди-ка, господин честной, отсюда все церкви видны. Одних Никол не перечтешь: вот это Никола у Красных колоколов, это Никола в Драчах, это Никола на Курьих ножках, это Никола на Болвановке, это Никола в Пыжах…
— Знаю, знаю! — твердил сквозь зубы Чермной; но пономарь, не слушая его, продолжал усердно пересчитывать церкви и колокольни.
— Сделай одолжение, любезный! — оказал наконец Чермной. — Вот тебе две серебряные копейки. Я что-то нездоров: нет ли у тебя Богоявленской воды? Я бы выпил немного, так авось мне бы полегче стало.
— Как не быть, отец мой; только идти-то за ней далеконько! — отвечал пономарь, почесывая затылок и уставив глаза на две серебряные копейки, лежавшие у него на ладони.
— Ну, вот тебе еще копейка, только сделай милость, принеси воды хоть немножко.
— Шутка ли вниз сойти и опять сюда взобраться! Ну, да уж так и быть.
Пономарь пошел вниз, а Чермной, внимательно глядя на Бурмистрова и заметив, что он в глубокой задумчивости стоит у перил, начал украдкою к нему приближаться. Подойдя уже близко к товарищу, он тихонько стал нагибаться, держа в руке серебряную копейку, чтобы сказать, что поднял ее с полу, если б Василий, неожиданно оглянувшись, приметил его движение. Уж он готов был схватить товарища за ноги и перебросить чрез перила, как вдруг опять раздался голос возвратившегося пономаря.
— Не прикажешь ли, отец мой, принести кстати просвирку? Да не поусердствуешь ли копеечкой на церковное строение? В селе Хомякове, Клюквино тож, сгорела недавно церковь.
— Где сгорела церковь? — спросил Бурмистров, выведенный из задумчивости громким голосом пономаря.
— В селе Хомякове, отец мой.
Василий вынул из кармана ефимок и отдал пономарю. И Чермной поневоле последовал его примеру, отдав серебряную копейку, которую держал в руке. Пономарь низко поклонился и, не сказав ни слова, пошел за кружкою простой воды, потому что Богоявленской у него не было.
Когда шум шагов его затих на лестнице, Чермной, видя, что Бурмистров отошел от перил и хочет идти вниз, остановил его и сказал:
— Мы с тобою давнишние сослуживцы, товарищ, и всегда были приятелями. Могу ли я на тебя положиться и поговорить с тобою откровенно об одном важном деле?
— Хочешь, говори, хочешь, нет, это в твоей воле. Я не хочу знать твоих важных дел, если меня опасаешься.
— Если б я тебя опасался, то и не начал бы разговора. Я тебя всегда почитал и любил, и потому решился, как добрый товарищ, предостеречь тебя.
— А от чего бы, например?
— Неужели ты ничего не слыхал и не знаешь? Послушай-ка, что по всей Москве говорят.
— Поговорят да и перестанут.
— Хорошо, как бы тем кончилось.
— А чем же может кончиться?
— Да тем, что и моя голова и твоя не уцелеют.
— Ну, так что ж? Двух смертей не будет, а одной не миновать.
— Я вижу, что ты мне не доверяешь и не хочешь быть со мною откровенен. Может быть, и пожалеешь об этом, да будет поздно. И к чему скрываться от меня? У нас одна цель с тобою: нам не мешало бы соединиться и действовать вместе. Времени терять не должно. Худо будет, если люди станут пахать, а мы руками махать. Пойдем обедать ко мне, товарищ. Я бы за столом сообщил тебе важную тайну. У тебя волосы станут дыбом, даром что ты не трус.
Чермной, не смея напасть открыто на Бурмистрова и не надеясь его пересилить и сбросить с колокольни, решился притвориться преданным царю Петру Алексеевичу, подстрекнуть любопытство Бурмистрова обещанием открыть ему тайну, зазвать к себе обедать и за столом отравить его ядом, купленным недавно, по поручению Милославского, в Новой аптеке.[20]
— О чем ты говоришь, Чермной? — сказал Василий. — Что у тебя за ужасная тайна? Право, не понимаю!
— Скажи лучше, что понимать не хочешь. Неужели ты не слыхал, что царю Петру Алексеевичу грозит опасность?
— Какая опасность?
— Та самая, о которой ты говорил сегодня с князем Долгоруким и о которой я уже прежде тебя его предуведомил.
Бурмистров устремил проницательный взор на Чермного.
— Спроси самого князя, если мне не веришь. Я обещал ему доставить полное и верное сведение о числе и силе заговорщиков и о всех их замыслах. Надеюсь вскоре исполнить мое обещание, хотя бы мне стоило это жизни. Я готов пролить кровь свою за царя Петра Алексеевича. Давно я на это решился и действую; а ты… думаешь о молодых девушках да прогуливаешься ночью по Москве с твоими стрельцами. Не сердись на меня, товарищ, за правду! Я прямо скажу, тебе, что грешно заниматься какою-нибудь девчонкою, когда дело идет о спасении царя.
— Побереги для других твои советы. Я знаю не хуже тебя свои обязанности и докажу на деле, а не словами, что готов умереть за царя.
— Дай руку, товарищ! Будь ко мне доверчив и ничего не скрывай от меня. Станем вместе действовать. Ум хорошо, а два лучше. Богом клянусь, что я стою за правое дело!
— Не клянись, а докажи это. Лучшая клятва в верности царю — кровь, за него пролитая. Тебе не перехитрить меня, Чермной! Ты, как вижу, подглядывал за мною, а я наблюдал за тобою. Напрасно станешь ты клясться, что стоишь за правое дело. Поверю ли я клятвам человека, который недавно уверял некоторых из стрельцов, что можно, не согрешив пред Богом, нарушить присягу, данную царю Петру Алексеевичу? Для кого присяга не священна, того все клятвы пиши на воде.
— Вот и вода! — сказал пономарь, которого лысая голова в это время явилась, как восходящее солнце. Он подошел осторожно к Чермному, чтоб не расплескать воды из принесенной им кружки; но Чермной, раздраженный укоризною Бурмистрова, оттолкнул пономаря и сказал Василью:
— Нас рассудит князь Долгорукий с тобою. Ты обвиняешь верного слугу царского в измене! Или я, или ты положишь голову на плаху.
Сказав это, он пошел вниз.
— Ах, ты бусурман нечестивый! — ворчал между тем пономарь, пустясь за ним в погоню по лестнице. — Да как ты смеешь толкаться, когда я держу кружку с Богоявленской водой. Я половину воды пролил на пол! Да я на тебя святейшему патриарху челом ударю! Татарин, что ли, ты али жид? Погоди ужо, дешево со мной не разделаешься!
Бурмистров шел за пономарем по лестнице. Чермной скрылся от своего преследователя, и пономарь в самом низу, в дверях, остановил Василья для допроса.
— Скажи, господин честной, кто этот окаянный антихрист, что с тобою наверху разговаривал?
— Не знаю! — отвечал Василий, не желая выдать товарища. — Я вовсе с ним не знаком и в первый раз встретился с ним сегодня. Кажется, он из татар.
— Ну так, у него и рожа-то не христианская! Коли держится иной шерсти,[21] так шел бы в свою поганую мечеть; а то лезет на Ивана Великого да пономаря толкает, нечестивец! Счастлив, что ушел: я бы с ним разведался на Патриаршем дворе!
Оставив разгневанного пономаря, Василий поспешил к дому князя Долгорукого.
Кончив вместе с Бурмистровым начатое поутру представление о заговоре, князь поехал к царице Наталье Кирилловне и приказал находившимся в доме его десятерым стрельцам взять под стражу Чермного, когда он, по обещанию, придет к нему вечером. Бурмистров сорвал личину с лицемерного злодея. Прощаясь с князем, Василий просил дать ему слово, чтобы за открытие заговора не давали ему никакой награды.
— Я не хочу, — говорил он, — чтобы меня могли подозревать в чистоте моих намерений. Открыв заговор, я не искал выслужиться и основать мое счастье на бедствии ближних, хотя и преступных. Я исполнил только священную клятву, данную Помазаннику Божию. За что же награждать меня? Неужели только за то, что я не хотел сделаться преступником и не нарушил священнейшей из клятв? Жизнь царя тесно соединена с благом Отечества и с неприкосновенностью Церкви православной, которую угрожает поколебать Аввакумовская ересь, заразившая большую часть стрельцов. Я всегда был готов умереть за веру, царя и Отечество, но никогда не желал суетных земных наград и почестей, помня слова св. апостола Павла, повелевающего не заботиться о том, как судят о нас люди, и не искать хвалы их, а памятовать, что судия наш — Господь, который в пришествие свое осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и что тогда всякому похвала будет не от людей, а от Бога. Дайте мне слово, князь, не награждать меня.