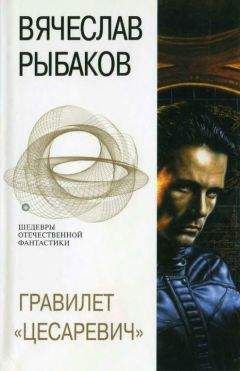Вячеслав Рыбаков - На мохнатой спине
13 сентября.
Чемберлен в официальном послании королю Георгу VI обозначил в качестве одного из приоритетов английской внешней политики стремление превратить Германию и Англию в «два столпа мира в Европе и оплоты против коммунизма».
15 сентября.
Чемберлен лично вылетел в Германию для встречи с Гитлером, но на встрече с ним в Берхтесгадене не смог смягчить немецкую позицию. По возвращении в Лондон он пригласил на консультацию французского премьера и министра иностранных дел. Те прилетели немедленно. В итоге Чехословакией решено было пожертвовать, о чём её и уведомили.
19 сентября.
Чешский президент Бенеш обратился к правительству СССР с запросом относительно его позиции в случае военного конфликта между Чехословакией и Германией.
20 сентября.
Чешское правительство попросило Англию и Францию пересмотреть своё решение, а вопрос о спорных территориях вынести на арбитражное разбирательство, как и предусматривалось для подобных случаев германо-чехословацким договором от 1925 года.
В тот же день в Прагу поступило очередное подтверждение готовности Москвы прийти на помощь Чехословакии. СССР начал подготовку к оказанию такой помощи: в Киевский особый военный округ была направлена директива начать выдвижение армейских частей к границе, в боевую готовность были приведены войска вплоть до Урала.
Вечером того же дня английский посланник сообщил чешскому правительству, что «в случае, если оно будет дальше упорствовать, английское правительство перестанет интересоваться его судьбой».
21 сентября.
Посланники Англии и Франции уведомили чешского президента: если чехи объединятся с русскими, «война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». В переводе с дипломатического языка это, очевидно, значило следующее: если Германия нападёт на Чехословакию, а СССР окажет Чехословакии помощь, войска Англии и Франция выступят против Чехословакии и СССР в союзе с гитлеровцами. После этого Чехословакия сдалась и объявила о принятии требований держав.
22 сентября.
Чемберлен проинформировал Гитлера об англо-французских «миротворческих усилиях».
23 сентября.
В ответ Гитлер потребовал передачи Германии вдобавок к уже обговорённым ещё и некоторых чешских территорий, где немцы не составляли большинства.
Венгрия потребовала от Чехословакии передачи ей части страны с преобладающим венгерским населением, а на остальной её территории – предоставления венгерскому меньшинству тех же прав, что и немецкому.
27 сентября.
Чемберлен направил Бенешу послание, в котором настаивал на дальнейших уступках Гитлеру, в противном же случае «ничто не сможет остановить германские войска, готовые к вторжению».
29 сентября.
В Мюнхене состоялась конференция Англии, Франции, Германии и Италии, вошедшая в историю как «Мюнхенский сговор». Без консультаций с Чехословакией и без её участия было определено, что, как и в какие сроки она должна отдать Германии. За основу принятого документа был взят предложенный Муссолини проект, предварительно согласованный им с Гитлером. Великие державы гарантировали неприкосновенность Чехословакии в её новых границах на случай «неспровоцированной агрессии», но при обсуждении набросков будущего договора Чемберлен ещё 19 сентября на заседании английского кабинета министров заметил: «Решение вопроса о том, что представляет собой неспровоцированная агрессия, сохраняется за нами».
30 сентября.
Гитлером и Чемберленом подписана англо-германская декларация, в которой провозглашалось намерение обеих высоких договаривающихся сторон впредь решать все проблемы посредством консультаций и продолжать усилия по устранению разногласий. Она содержала формулировку относительно «желания двух народов никогда более не воевать друг с другом», что делало её практически равноценной пакту о ненападении.
В тот же день польское правительство передало Чехословакии ноту, в которой потребовало немедленной передачи Польше Тешинской и Фриштатской областей.
А поговорить?
Осень в тот год как началась в апреле, так и тянулась до самой зимы.
За плачущим окошком металось серое месиво. Бесплотные полотнища домов напротив висели в мути унылыми тенями, и в них, словно прорехи, маячили блёклые окна, освещённые изнутри.
По случаю выходного я работал дома, и, хотя уже шло к полудню, мне тоже приходилось жечь настольный свет.
В дверь кабинета постучали, а потом в открывшуюся щель просунулась Серёжкина голова.
– Ты как, не очень занят? – спросил сын.
Я с удовольствием откинулся в кресле и выгнул спину, заложив за голову руки со сцепленными пальцами.
– Рад буду прерваться, – сказал я. – Всю работу не переделаешь. Не так уж часто ты теперь удостаиваешь меня беседой.
Аккуратно притворив дверь за собою, сын двинулся ко мне. И пока он шёл, мои руки сами потянулись обратно к столу и перевернули все бумаги чистой стороной вверх.
А ведь на дому я работал только с несекретными документами, благо их можно было безбоязненно и беспрепятственно выносить из наркомата.
Сын, поймав моё движение, посмотрел на меня с лёгкой иронией, и только тогда я понял, что сделал.
– Товарищи, будьте бдительны, – сказал он голосом радиодиктора. – Даже ваш сын может оказаться агентом мирового империализма. Только мировой империализм не может оказаться агентом вашего сына.
Мы посмеялись, потом я спросил:
– Это что, новый анекдот?
– Какой уж там анекдот. Самая что ни есть правда жизни, – ответил он.
И уселся в другое кресло, стоявшее сбоку стола, у окошка.
Я смотрел сыну в глаза спокойно и выжидающе.
А разбуженный его появлением поганый безмозглый червяк в тёмном подполе моей души завертелся и заёрзал, задёргал вправо-влево острой головёнкой, желая немедленно знать: ну, как там у них с Надеждой? Уже? Или ещё? Вот эти молодые простецкие губы, и формой, и цветом так похожие на давние мои, уже встречались с её вишнёвыми губами, очерченными с изысканностью кленового листа? Уже целовали ей грудь?
О том, как развиваются их с Надей отношения, сын ничего не рассказывал; да и с какой стати он, взрослый, плечистый, летающий выше облаков, принялся бы рассказывать старому папке о своих похождениях или их отсутствии?
Встречал я замечательных комсомолок, что годами соблюдали твёрдость кремня, корунда: до победы мировой революции – ни-ни, даже думать не смей; а потом, выйдя замуж – как правило, счастливо, – в одночасье превращались в домовитых, любящих, преданных жён и прекрасных матерей. Однако попадались и иные, совершенно искренне полагавшие главной из свобод и кратчайшей дорогой к раскрепощению личности беззастенчивые прыжки по чужим кроватям; эти уже к тридцати годам превращались в жёваных старух, успев обогатить мир лишь ростом числа беспризорников да, может, ещё кипами стихов средней тяжести или страстных, но бессмысленных умствований типа «как жестока жизнь, как жалок человек». Впрочем, бывает, конечно, и наоборот, жизнь, она такая – любит нарушать правила. Но из-за этого правила не становятся исключениями. К тому же в лихие двадцатые воительниц за приволье половых отношений основательно проредил сифилис и прочие плоды свободы. Я не успел понять, к какому виду принадлежала Надежда; да это вообще трудно понять, потому что и сам-то человек себя до поры не понимает. Конечно, для сына я всей душой предпочёл бы корундовую в радости и горести, в постели, на кухне, на стройке и в окопе подругу. Но мой личный червяк из подпола… Ох, до чего ж ему, паскуднику, мечталось, чтобы каким-нибудь чудом Надежде взбрело в голову раскрепоститься как личности именно со мной!
– Ну ладно, – сказал я. – Предположим. Крошка сын к отцу пришёл. И спросила кроха?..
Я намеренно придал последней фразе несколько вопросительную интонацию. Мол, какие проблемы?
Молодой сталинский сокол – а кого ещё и называть так, если не Серёжку и не таких, как он? – от неловкости взъерошил волосы, но ответил почти без паузы:
– Коммунизм-то хорошо. А что там будет плохо?
– Ого! – сказал я.
Надо было собраться с мыслями, и я взял неприметный тайм-аут.
– Тогда для начала всё-таки анекдот. Почти по теме. Пап, откуда берутся дети? Ах вот ты о чём, сынок, сказал отец и глубоко задумался.
Вежливо, но мимолётно улыбнувшись, он наклонился вперёд, словно решил было пойти на таран своей лобастой головой, но в последний момент передумал. Я понял: у него что-то случилось важное, и так просто мне не отшутиться.
– Коммунизм мы лет через пять – семь построим, – убеждённо сказал он. – Сейчас такой темп взяли, что… Ну, если Гитлера бить придётся, то через десять. Это понятно. А дальше-то что?