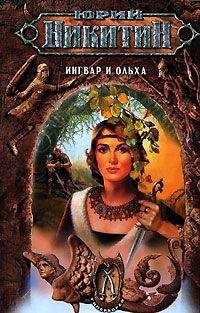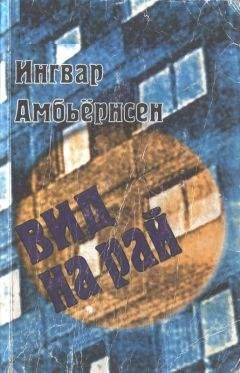Валентин Пикуль - Тайный советник (Исторические миниатюры)
Извещенный обо всем Станкевич, уже генерал в отставке, возражать не стал и сознательно уехал из Петербурга на время, нужное для обручения и свадьбы, которую Энгельгардты решили играть в Конюшенной церкви возле Певческого моста.
— Кланяйся от меня Анне Романовне, — наказал генерал сыну, — и передай ей, что мешать никому не стану…
В эти же дни, привычно крадучись, словно вор, в роскошном дворце светлейшей княгини Салтыковой тихо вылез из своего мрачного убежища сам Ф. В. Энгельгардт, объявленный когда-то мертвецом. Этот «живой труп», таясь даже дневного света, в потемках навестил свою знатную кузину в ее будуаре.
— Какие новости в столице? — осведомился он привычно.
— Разве газет не читаешь? Ведь уже объявлено о помолвке твоей дочери Полины с «желтым кирасиром» Станкевичем.
— Каким Станкевичем?
— Сыном того самого, что допрашивал тебя и глумился над твоей слабостью, того, что вел до суда твое дело, того самого, что превратил тебя в живого покойника…
Если бы он узнал, что Полина выходит замуж за кого-либо другого, ему, отцу, это было бы безразлично, но сейчас он, дико озлобленный на весь мир за годы своего принудительного отшельничества, сразу воспылал лютой ненавистью, узнав, что судьба вторично связывает его имя с именем Станкевича.
— Я отомщу им всем, — решил он…
На следующий день этот «давно погребенный» вдруг вышел на дневной проспект и зашагал, никуда не сворачивая, прямо в Третье отделение, чтобы отомстить всем, всем, всем…
Леонтия Дубельта, вечная ему память, уже не было, наступили новые времена, главным жандармом стал Александр Егорович Тимашев, которому в ту пору было уже не до маркиза де Кюстина, ибо приходилось глушить могучий набат герценовского «Колокола». Между тем родительская власть почиталась в России по-прежнему нерушимой, и потому Тимашев нисколько не удивился, когда перед ним предстал бледный как смерть, изможденный старик, с апломбом заявивший, что он протестует — именно, как отец:
— Случайно я известился, что моя жена, не испросив моего одобрения, самовольно выдает дочь Полину за корнета Сергея Станкевича, но я, как отец невесты, достаточно осведомленный о порочном семействе Станкевичей, всеми фибрами души протестую против этого брака, который — волею жены! — вершится без моего отцовского благословения…
Тимашев, человек нового времени, ничего не знал о той старой истории, трагичной для семьи Энгельгардтов, и, выслушав визитера, согласно кивнул:
— Воля родителя да будет священна. Хорошо, что вы, сударь, предупредили меня заранее, чтобы разрушить эту свадьбу от самого начала…
Выпроводив старика, Тимашев распорядился, чтобы к нему вызвали отца Станкевича, но ему сообщили, что тот отбыл в деревню, и тогда к главе жандармов пригласили Анну Романовну.
— Мадам, — строго начал он, — как же вы осмелились одобрить брак дочери с этим «желтым» Станкевичем, даже не испросив на то благословения своего супруга, который, опечаленный таким коварством, сидел вот тут, плакал и жаловался…
Женщина весело расхохоталась:
— Впервые слышу, что покойники умеют плакать.
— Простите, мадам, я вас не понял.
— Сейчас поймете… О каком еще муже вы смеете рассуждать, если я давно овдовела. А замогильных протестов не принимаю и вам не советую… Не верите? Но я могу предъявить подлинные документы из Дворянского собрания, в которых указано даже место захоронения моего мужа… Александр Егорович, я что-то не понимаю, с кем вы тут без меня разговаривали?
— Вот теперь… и я не знаю, — согласился Тимашев, сверившись с документами о давней кончине мужа Анны Романовны. — Не имейте на меня сердца… служба у нас, знаете, такая. Кого только не приходится принимать. Даже идиотов и аферистов выслушиваем. Но в другой раз, если ваш «муж» явится с того света, я позабочусь о том, чтобы его спустили с лестницы…
Энгельгардт, пылающий отмщением, не замедлил снова предстать перед Тимашевым, настаивая на запрещении брака дочери, но Тимашев сразу остудил его, облив водой из графина:
— Титулярный советник Энгельгардт, за которого ты себя выдаешь, давно почивает на погосте Вологодской губернии, и ты еще благодари меня, что я не желаю выяснять, кто ты такой на самом деле и ради чего тут шляешься… Вон отсюда! По-хорошему…
Но «мертвец» уже выбрался из своей «могилы».
В канун венчания к дверям дома Энгельгардтов чья-то злобная рука подкинула грязную анонимку. Кто-то в письме угрожал, что, посмей Анна Романовна явиться в церковь, и ей и всем гостям будет устроен такой скандал, что без вмешательства полиции свадьба не обойдется, и в газетах этот скандал будет обрисован со всеми подробностями… Вера Диевер, чтобы утешить мать, советовала не придавать анонимке серьезного значения. Но тут Анна Романовна расплакалась.
— К сожалению, — поведала она дочери, — это не аноним. Я узнала почерк… это он… твой отец.
Старый лакей, придя с улицы, сообщил, что видел Энгельгардта в толпе любопытных и нищих, которые с утра пораньше собрались возле Конюшенной церкви, чтобы, как это водится, поглазеть на «молодых». По этой причине мать невесты, не допустившая до свадьбы отца жениха, и сама осталась сидеть дома, никуда не выезжая. Гостей же к вечернему ужину пускали по билетам, чтобы в дом не проникли лишние, чтобы избежать скандала, если явится «загробная тень отца»…
После этого жизнь в доме Энгельгардтов стала невыносимой. «Мертвец с того света» не переставал мучить семью угрозами, он слал проклятия не только своей бывшей жене, но даже детям — он предвещал своему потомству различные беды и несчастья. Что-то, превратно истолкованное, дошлой до офицеров полка, в котором служил молодой Сергей Станкевич, — бедному корнету пришлось удалиться в отставку.
Вскоре его нервы не выдержали, и он сошел с ума. Когда его упрятали в дом для умалишенных, жена его, Полина Федоровна, еще совсем молоденькая, при живом муже, как когда-то и ее мать, облачилась в траур.
— Боже праведный, почему мы все такие несчастные?! — восклицала она, а мать ничего не могла ответить дочери…
Но, кажется, и сама Анна Романовна поняла, что благосклонность Провидения навсегда отвернулась от них, как от проклятых. Вся семья Энгельгардтов покинула священный град Петербург и неслышно растворилась в тиши необъятной русской провинции, где о них никто ничего не знал, а в столице о них быстро забыли…
«Ошибка» доктора Боткина
Все было спокойно, и ничто не предвещало беды…
Пять приемных дней в неделю — это, конечно, многовато для каждого врача, а тем более для такого, каким был маститый клиницист Сергей Петрович Боткин. Возвращаясь по вечерам со службы, уже достаточно утомленный, он с трудом протискивался в свою квартиру через плотную очередь жаждущих от него исцеления, а бывали и такие дни, когда очередь больных начиналась на лестнице.
— Позвольте пройти, — вежливо говорил Боткин. — Не сомневайтесь, приму всех, но прежде пообедаю и выкурю сигару.
Иногда до полуночи принимал больных, после чего приникал к возлюбленной виолончели, уверовав, что музыка лучше любой ванны снимает мозговую усталость. Редкий день Боткина выдавался свободным; трамваев тогда не было, конка далее Литейного моста не ходила, петербуржцы довольствовались прогулками в Летнем саду, где сверкал иллюминацией ресторан Балашова, а с Невы веяло прохладой.
— Катя, — сказал однажды Боткин жене, гуляя с ней по аллеям и ежеминутно раскланиваясь со знакомыми или совсем незнакомыми, которые издали снимали перед ним котелки, — помнишь ли, дорогая, что я не так давно говорил тебе о Реште?
— Да, это город в Персии, но к чему ты Решт вспомнил?
— Я получил на днях странное письмо…
— Неужели из Решта?
— Нет, от городского головы волжского Царицына некоего господина Мельникова, который бьет тревогу, ибо с низовий Волги приходят слухи о том, что в станице Ветлянской умирают люди… похоже, что от чумы.
Боткин был женат вторым браком на княжне Оболенской, для нее он был тоже вторым мужем; некрасивая, но умная женщина в очках, похожая на курсистку, она многое понимала в заботах мужа-врача, но сейчас понимать его не хотела:
— Чума? В конце века науки и прогресса? Верить ли?
— Верить надо, — отвечал он подавленно. — Чума не признает ни времени, ни пространства, а ее пути остаются для нас, грешных, неисповедимы, как и пути Господни…
Сергей Петрович был слишком известен, по этой причине двери любых кабинетов были перед ним широко распахнуты, и в один из дней осени 1878 года врач потревожил покой министра внутренних дел Макова, спросив его:
— Лев Саввич, известно ли вам, что творится в Ветлянке?
Маков покраснел, ибо не знал, где такая Ветлянка, но, поборов смущение, он сделал вид, что извещен достаточно. На всякий случай Боткин вложил в него ничтожную долю правды, которой хватило с избытком, чтобы министр схватился за голову.