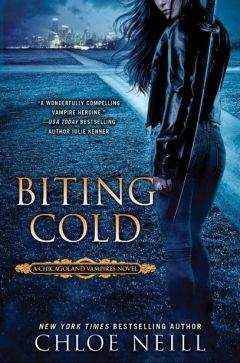Татьяна Корсакова - Приди в мои сны
– …Значит, вот оно как вышло. – Кайсы слушал молча, не перебивал, заговорил, только когда Евдокия замолчала. – Знал бы я, что у Демида такой сынок народился, своими бы собственными руками в колыбели удавил. Да и сейчас не поздно, мне кажется.
– Он не ходит больше один, набрал новую свору, страшнее прежней. Никому не доверяет, всего боится. Понимает, что многим как кость в горле. В городе его боятся очень, но и ненавидят тоже сильно. Желающих на его могиле сплясать много.
– Желающих много, да только он что-то до сих пор жив. – Кайсы сплюнул себе под ноги. – Ничего, придет время…
– Кайсы, – позвала Евдокия, – расскажи про Федю. Какой он? Не сломала его каторга?
– Сломала? – Кайсы посмотрел на женщину как-то странно, искоса. – Прошлась она по нему знатно. Что есть, то есть. Я когда его первый раз увидел, подумал, что ошибся. Парня же молодого искал, а он… и не старик вроде, и двужильный, а взгляд мертвый какой-то. Словно жить ему больше незачем.
– Мы ему писали. И я, и Аким Петрович. Айви так та вообще каждый день, считай. Не получал он от нас весточки, выходит?
– Это каторга, Евдокия. – Кайсы покачал головой. – До меня ваша весточка сколько лет шла. А до него… Я не спрашивал, но, думаю, одного письма от Айви ему бы хватило, чтобы за жизнь зубами держаться, не отпускать. А он не держался, ничего не боялся, на рожон пер. Ты не узнаешь его, Евдокия. Он сам себя не узнал. Бывает, что люди так сильно меняются, словно шкуру старую сбрасывают. Вот и он старую сбросил, а новая все никак не нарастет. И когда он про Айви узнает… – Кайсы замолчал и молчал очень долго, будто обдумывал что-то очень важное, а потом сказал: – Но обманывать его нельзя. Тут одно из двух: он за ней следом уйдет или станет мстить. И тогда не завидую я тому выродку, который девочку мою угробил…
Дальше шли молча. Да и о чем говорить, когда все самое важное, самое страшное уже сказано? Вот только тревога все сильнее, а серебряный браслет, завернутый в холстину, с каждым шагом наливается тяжестью, того и гляди, сделается совсем неподъемным.
Не подвело предчувствие… Стоянка у догорающего костра оказалась пуста, а в кристальном рассветном воздухе витал сладковатый запах горелой плоти. Кайсы подбежал к костру, матерно выругался.
– Ушел, – сказал он.
– Значит, мы сейчас за ним пойдем. – Евдокия поправила ружье. – На озере его нужно искать, некуда больше ему идти.
Отец Айви криво усмехнулся, надвинул на глаза шапку.
– Тяжело будет. В прошлый раз я его из воды вытащил. Считай, нам с ним обоим повезло. Но видела бы ты, как он ярился, когда понял, что на остров ему ходу нет. Не глаза – а бельма серые. Был человек – и не стало человека. А что стало, на то смотреть страшно.
– Мы не будем к нему подходить. – Ружье сделалось совсем уж неподъемным, каменным, а сердце тревожно заухало, забилось о ребра. – Аким Петрович, как без браслета остался, никого к себе близко не подпустил. – В ноздри снова шибанул сладковатый запах крови, а в ушах послышалось назойливое жужжание. Евдокия отмахнулась и от запаха, и от жужжания, сказала решительно: – Придется стрелять.
И Кайсы не стал возражать, кивнул, соглашаясь с тем, что выхода иного нет. Заговорил он лишь, когда они шли, почти бежали к озеру.
– Просто ранить его не получится, стрелять нужно наверняка, почти насмерть. Иначе он нас убьет.
Почти насмерть…
– Ты можешь сделать так, чтобы остановить его, но при этом не убить?
Она не знала, знала лишь, что иного выбора ни у них, ни у Федора нет. Аким Петрович прожил на Стражевом Камне долгую жизнь, научился управляться со своей заемной силой, обуздывать безумие, а Федя пока этого не умеет. Слишком долго он был вдали от острова, слишком мало знал о себе и серебре. Нужно стрелять. По-другому никак. И когда придет время, ее рука не дрогнет.
Евдокия так думала до тех пор, пока не увидела Федора…
Да, Кайсы рассказал, что он пережил, каким стал. Да, она готовилась к этой встрече, но все равно оказалась не готова… Она помнила его юношей, молодым, наивным мальчиком с глазами, ясными, как июльское небо, вихрастого, с улыбкой на веснушчатом лице, а увидела изломанного, заматеревшего, озлобившегося, обезображенного мужчину. И не узнала… Она не узнала в нем Федю, которого в душе почти с первого дня знакомства считала родным племянником, своим мальчиком.
– Вот он теперь какой. – Кайсы крепко сжал ее плечо, то ли ободряя, то ли пытаясь удержать. – Но он все равно светлый, Евдокия. Несмотря на эту тьму вокруг, он остался человеком.
Федор не был похож на человека. На безумца, на зверя, на чудовище – но не на человека. Он стоял по пояс в воде. Ноздри его раздувались, а единственный здоровый глаз казался слепым. И этим слепым, подернутым желтым туманом глазом он смотрел, кажется, прямо Евдокии в душу. Смотрел, ненавидел, хотел убить…
Он шел медленно, неспешно, но в движениях была какая-то особая змеиная грация, и броситься вперед Федор мог с точно такой же змеиной стремительностью.
Зажужжали невидимые мухи…
В воздухе остро запахло кровью…
– Стреляй, – прошептал Кайсы, а когда Евдокия не шелохнулась, заорал во все горло: – Да стреляй ты, женщина!
И она выстрелила… В тот самый момент, когда человек, уже почти переставший быть человеком, бросился вперед. В голове билась одна-единственная мысль – остановить, но не убить. А искушение было велико. Оказывается, в ней, взрослой, многое повидавшей на своем веку женщине, все еще жила маленькая девочка. И эта девочка боялась чудовищ. Если выстрелить прямо в сердце, желтоглазое чудовище умрет или уползет обратно в озеро, и не нужно будет задыхаться от страха, и руки перестанут дрожать. Но выстрелила она выше, не в сердце, а в легкое. Приклад больно ударил в плечо, запахло порохом, а тот, кого она считала чудовищем, замер, будто наткнулся на невидимую преграду. Он стоял так, кажется, целую вечность, а потом стал медленно заваливаться на спину, марая своей красной, совершенно человеческой кровью серебро озерной воды. И на рубахе его распускался алый цветок, как у Акима Петровича, только чуть выше… Лицо его Евдокия увидела перед тем, как он рухнул в озеро. Чудовище исчезло, это был ее Федя, повзрослевший, измученный, смертельно уставший, удивленный.
Она не успела его удержать, и отчаянный крик ее он, наверное, не услышал. Единственным глазом Федор смотрел в небо и улыбался чему-то, видимому только ему одному. А Евдокия рыдала в голос, гладила его по мокрым волосам, по худому, заросшему бородой лицу и боялась, что эта ее запоздалая ласка последняя, что он уйдет вслед за той, кого видит сейчас в небе.
– Дура баба! – В чувство ее привел голос Кайсы. – Перестань голосить как по покойнику, а лучше помоги мне вытащить его из воды. Его нужно перевязать, пока не истек кровью.
– Я его убила. – Разум еще туманил страх, но Евдокия уже действовала: подхватила Федора под мышки, потащила из воды.
– Еще нет, но убьешь, если не успокоишься. – Кайсы ухватил Федора за ноги, и вдвоем они вынесли его на берег.
Дальше Кайсы действовал сам. Из охотничьей сумки он достал склянку с какой-то мазью, споро разложил небольшой костерок, прокалил нож над зарождающимся пламенем, велел:
– Порви платок. Федора нужно перевязать. И рану крепче зажми.
А она и не заметила, что стоит над бесчувственным Федором на коленях и окровавленными руками зажимает рану в груди. В груди у него все клокотало, и на синих губах вскипала кровавая пена.
– Нужно выпустить лишний воздух, он сжимает легкое, мешает дышать, – сказал Кайсы сосредоточенным, отрешенным голосом. – Истерики мне сейчас не нужны. Отвернись.
Она не стала отворачиваться. Как она могла отвернуться после того, что сделала с бедным мальчиком! А Кайсы уже ощупывал его грудь, бормотал себе под нос что-то злое на марийском. Евдокии показалось, что ругательства. Пусть ругается, лишь бы помог, лишь бы исправил то, что она наделала.
И он исправил. Острие ножа вошло в человеческую плоть под ключицей, провернулось с чавкающим звуком, и Евдокия прикусила руку, чтобы не закричать, не повиснуть на Кайсы, не позволить больше мучить Федю, но удержалась, заставила себя довериться ветру. А он уже вставил в рану полую железную трубку, и из трубки этой с тихим шипением начал выходить воздух и кровавые пузыри. Она думала, что воздух – это всегда хорошо, что по-другому и быть не может. Оказалось, может. Оказалось, воздух может сдавить легкое, смять сердце, убить. Если его не выпустить…
– Хорошо, – сказал Кайсы по-русски и тылом широкой ладони стер со лба пот. – Теперь пуля.
Пулю он достал быстро, швырнул окровавленный кусочек свинца на землю и нарезанной на узкие ленты шалью Евдокии принялся перевязывать рану, приговаривая:
– Вот так, вот теперь красота… А ты, женщина, хорошо стреляешь. Не хотел бы я быть твоим врагом.
Хорошо стрелял ее покойный муж. Охотником он был страстным и Евдокию научил. Они тогда оба были молодые, отчаянные, и Степочка еще не родился у них. По лесу они могла бродить днями, хорошо им было вдвоем. И Евдокия училась всему, что показывал ей муж, и однажды своими собственными руками завалила злобного секача. Но то секач, а это Федя…