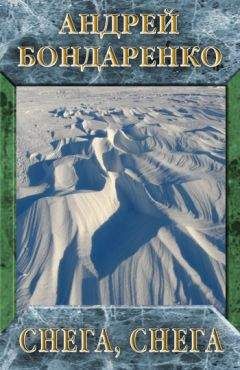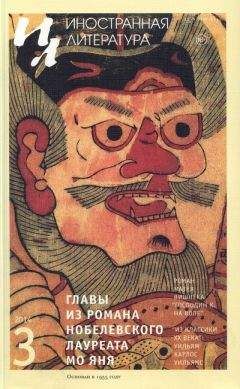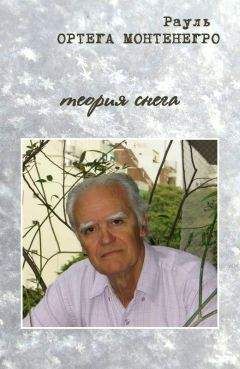Андре Мальро - Королевская дорога

Обзор книги Андре Мальро - Королевская дорога
Андре МАЛЬРО
КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА
Тот, кто живёт одними мечтами,
становится похож на свою тень.
Малабарская пословицаЧАСТЬ ПЕРВАЯ
На этот раз навязчивая мысль, неотступно преследовавшая Клода, взяла своё: он упорно вглядывался в лицо этого человека, утопавшее в полутьме из-за горевшей сзади лампочки, пытаясь различить наконец на нем хоть какое-то выражение. Силуэт весьма неясный, расплывчатостью своей напоминавший мерцающие огни сомалийского побережья, растворявшиеся в нестерпимо ярком сиянии луны, вбиравшем в себя тусклый отблеск солончаков… Интонации голоса, выражавшие нескрываемую иронию и тоже, казалось ему, растворявшиеся где-то в африканском мраке, служили своего рода подтверждением легенды, той самой легенды, что властно притягивала к этому расплывчатому силуэту пассажиров, падких на все возможные сплетни и выдумки, и служила основной темой для разговоров или просто досужих вымыслов, а то и для сочинения целых романов, легенды, неизбежно сопутствующей белым, так или иначе причастным к жизни независимых азиатских государств.
— Молодые люди имеют неверное представление о… как это у вас принято называть?.. Об эротизме. До сорока лет обычно заблуждаются, не могут отрешиться от такого понятия, как любовь: мужчина, который полагает, что не женщина служит дополнением секса, а, наоборот, секс является неким дополнением к женщине, вполне созрел для любви — что ж, тем хуже для него. Но ещё хуже, когда пора навязчивой идеи секса, мании отроческих лет, возвращается с новой силой. Питаемая на этот раз всякого рода воспоминаниями…
Клод явственно ощущал запах пыли, конопли и бараньей шерсти, исходивший от его одежды, и снова видел перед собой дверь, занавешенную мешковиной; слегка приподняв её, чья-то рука совсем недавно указывала ему на обнажённую чёрную девушку (без единого волоска на теле) с ослепительно ярким солнечным пятном на остроконечной груди; её полуопущенные веки с густыми ресницами недвусмысленно свидетельствовали об эротизме, выражали маниакальную потребность, «потребность идти до конца своих возможностей», говорил Перкен… который тем временем продолжал:
— …Воспоминания имеют обыкновение преображаться… Удивительная вещь — воображение! Оно существует само по себе и вне зависимости от себя… Воображение… Оно всегда служит нам утешением…
Его резко очерченное лицо чуть виднелось в полутьме, но свет дрожал на его губах, на кончике сигареты, словно позолоченном. Клод чувствовал, как мысли его постепенно смыкаются со словом, они были похожи на тихо плывущую лодку с гребцами, одновременно взмахивающими вёслами, на которых отражаются корабельные огни.
— Что вы хотите этим сказать?
— Когда-нибудь вы сами поймёте… сомалийские бордели полны неожиданностей…
Клоду знакома была эта злобная ирония, с которой человек говорит обычно только о себе или о своей судьбе.
— Полны неожиданностей, — повторил Перкен.
«Каких?» — задавался вопросом Клод. Перед глазами его снова вставали световые пятна керосиновых ламп, облепленных насекомыми, девушки с прямыми носами, в их облике не было ничего, что соответствовало бы понятию, которое вкладывалось в слово «негритоска», если не считать ослепительных белков глаз, отделявших зрачок от тёмной кожи; покорные флейте слепца, они двигались по кругу, и каждая в исступлении хлопала по чересчур крупному заду той, что шла впереди. Но вот внезапно их круг распался; слив свой голос с особо чувственной нотой флейты, они замерли на мгновение с закрытыми глазами, головы и плечи оставались неподвижными, а сковывавшему их напряжению они давали выход, без конца заставляя вибрировать крепкие мускулы своих бёдер и торчащей груди, в свете керосиновой лампы пот лишь подчеркивал эту трепетную дрожь… Хозяйка подтолкнула к Перкену совсем юную девушку, та улыбалась.
— Нет, — сказал он, — вон ту, другую. У той по крайней мере это, похоже, не вызывает восторга.
«Садист?» — подумал Клод. Ходили слухи о всякого рода миссиях, которые Сиам note 1 возлагал на него в отношении непокорных племён, о его деятельности в краю чамов note 2 и лаосских походах, о его своеобразных взаимоотношениях с правительством Бангкока, то добросердечных, то угрожающих; о той неистовой любви, какой окружали его когда-то, преклоняясь перед его могуществом, перед его необъятной властью, над которой он не терпел никакого контроля, о его закате, его эротизме; между тем здесь, на пароходе, ему не было бы отбоя от женщин, если бы он не оборонялся от них. «Что-то такое, конечно, есть, но это не садизм…»
Перкен откинул голову на спинку шезлонга: на маску несгибаемого консула, застывшую, как оскал зверя, упал яркий свет, её суровость подчеркивалась тенью глазных орбит и носа. Дым от его сигареты, поднимаясь вверх, терялся в непроглядной ночной тьме.
Слово «садизм», застрявшее в сознании Клода, вызвало к жизни одно воспоминание.
— Однажды в Париже меня привели в какой-то жалкий борделишко. В гостиной находилась одна-единственная женщина, она была привязана к лежаку верёвками с поднятой юбкой, вид глупейший…
— Кверху передом или задом?
— Задом. А вокруг — шесть или семь типов: самые заурядные обыватели при галстучках, в пиджаках из альпака (дело было летом; правда, жара стояла не такая, как здесь…), глаза у них выпучены, щёки пунцовые, и каждый из кожи вон лезет, всеми силами стараясь показать, что пришёл поразвлечься… Они подходили к женщине, один за другим, хлопали её по заднице — причём только по разу — расплачивались и уходили либо поднимались на второй этаж…
— И это всё?
— Всё. Да и поднимались-то совсем немногие, большинство уходило. Так вот, мечты этих добрейших мужей, водружавших на выходе шляпу и теребивших лацканы пиджака…
— Довольно примитивны, я полагаю…
Перкен вытянул правую руку, будто собираясь подкрепить жестом какую-то фразу, но вдруг задумался, словно не решаясь высказать вслух свою мысль.
— Главное, не знать партнёршу. Она — другой пол, и всё тут.
— Но никак не существо, наделённое своею собственной жизнью?
— Мазохистам и этого мало. Они всегда борются только сами с собой… Подкрепляют своё воображение тем, на что способны, а не тем, к чему влечёт. Самые глупые из проституток и те знают, насколько далёк от них мужчина, который их мучает или которого сами они мучают. Вам известно, как они называют непостоянных посетителей? Заумными…
Клоду подумалось, что и словечко «непостоянные» само по себе тоже… Он уже не спускал глаз с этого напряжённо застывшего лица. Интересно, имел этот разговор какую-то цель или нет?
— Заумные, — снова повторил Перкен. — И они правы. Существует одно только, как говорят глупцы, «сексуальное извращение»: это непомерное воображение, неспособность к удовлетворению. Там, в Бангкоке, я знал одного мужчину, который заставлял женщину привязывать его на час голого в тёмной комнате…
— И что?
— Ничего… этого ему было достаточно. Вот уж поистине «извращенец»…
Он встал. «Спать хочет, — спрашивал себя Клод, — или решил прекратить этот разговор?..» Перкен удалялся, как бы растворяясь в поднимавшемся кверху дыме, перешагивая по очереди через негритят, которые, открыв розовые рты, спали между корзинками с кораллами. Тень его становилась всё короче, и вскоре на палубе осталась только одна вытянутая тень Клода. Что ж, его выдвинутый вперёд подбородок казался почти столь же мощным и крепким, как и челюсти Перкена. Лампочка качнулась, и тень задрожала: что станется с этой тенью и с телом, продолжением которого она являлась, через два месяца? Впрочем, что значит отражение без глаз, без этого решительного, озабоченного взгляда, выражавшего в тот вечер его суть гораздо больше, чем этот мужественный силуэт, на который как раз собиралась ступить бортовая кошка. Он протянул руку — кошка убежала. И снова он оказался во власти всё тех же неотвязных дум — сущее наваждение.
Ещё две недели этого жадного нетерпения; две недели тревожного ожидания на этом пароходе, в тоске вроде той, что испытывает наркоман, лишенный своего зелья. Он снова, в который уже раз достал археологическую карту Сиама и Камбоджи; теперь он знал её лучше, чем собственное лицо… Его завораживали большие голубые пятна, которыми он отметил мёртвые города, пунктир бывшей Королевской дороги, грозно подтверждавшей: в сиамских лесах царит полное запустение. «По крайней мере один шанс из двух отдать там концы…» Полузаросшие тропинки, то там, то здесь костяк маленького зверя, брошенного возле почти угасшего костра, конечного пункта последней экспедиции в край джараев note 3; руководивший ею белый по имени Одендхал был убит людьми из огненного Садета, вооружёнными копьями, убит ночью под шелест и хруст пальм, возвещавших о прибытии слонов экспедиции… Сколько ночей придётся ему провести без сна, изнурённому, изъеденному комарами, или засыпать, полагаясь на бдительность какого-нибудь проводника?.. Вступить в открытый бой вряд ли представится случай… Перкен знал эту страну, но не говорил о ней. Сначала Клода покорил его тон (это был единственный человек на пароходе, который запросто произносил слово «решимость»); он догадывался, что этот, можно сказать, седой человек любил то же, что и он сам. В первый раз Клод услыхал его у красной полосы египетского берега; не обращая внимания на приливы и отливы интереса к нему окружающих или их враждебность, тот рассказывал, как обнаружили два скелета (наверняка грабителей гробниц), их нашли во время последних раскопок в Долине царей, на полу одного из подземных залов, откуда расходились галереи, украшенные бесчисленными мумиями священных кошек. Даже небольшого жизненного опыта Клода оказалось бы довольно, чтоб понять простую истину: глупцы везде встречаются, причём не только среди авантюристов, однако этот человек заинтриговал его. Потом он слышал, как тот говорил о Майрена, эфемерном властелине седангов note 4: