Юрий Давыдов - Март
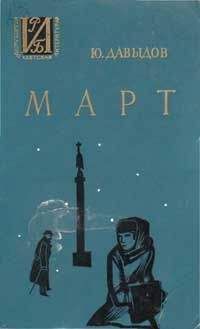
Обзор книги Юрий Давыдов - Март
Юрий Владимирович Давыдов
Март
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1 ПОДКОП
Невесомей полушки была фамилия – Иванов. А имя огромное, как Россия, – Иван. Ивана Иванова убили в Петровско-Разумовском.
Там Денис еще мальчиком гостевал. Отец, вдовый провиантский чиновник, стакнется, бывало, с извозчиком поплоше, и отправятся Волошины к стародавнему отцову приятелю, служителю Петровской земледельческой академии.
С Дмитровки путь прямиком, но не близкий: мимо насупленного, сумрачного Бутырского тюремного замка, мимо заставы и приземистой горемычной слободы, иногда вскипавшей ярмарочным весельем, а дальше уж пахнет на тебя выгонами и рощами, встанут избушки на курьих ножках, какие-то сторожки, и, наконец, покажутся строения Петровско-Разумовского, от которых вдруг и повеет минувшим роскошеством, отгремевшей, как полонезы и мазурки, чужой, незнакомой, но странно-приманчивой жизнью.
Хорошо гостевалось в Петровском! В пузырчатых выпуклых окнах академии торжественно плавало солнце. Из гущины цветников, гудевших шмелиным гулом, высоко и вольно взметывался фонтан. Старый парк широкими террасами ниспадал к рукотворному озеру, где в веселые времена Кирилла Разумовского нежно перекликались лебеди.
Теперь не было ни лебедей, ни оркестров, ни фейерверков. Иное теперь было в Петровско-Разумовском: студенческое житье, профессора, озабоченные лесоводством и урожайностью. Но Дениску Волошина «по младости лет» не трогали перемены и новшества, постигшие старинное подмосковное село. Ему бы только подальше от призора, от взрослых с их назиданиями, ему бы под сень, лип, на «остров Хуан Фернандес», к Робинзону Крузо. Островом, робинзонадой принимал Дениска Петровско-Разумовское. И лишь пруды там, за парком, по дороге на пчельник, лишь пруды и каменный грот обходил стороной. Да и как не обегать страшное место? В гроте студента убили, труп затолкали под лед, в пруд… Страшное место! Тут тебе не сказка, не книжка, тут вправду кровь, смерть, ужас. И Дениска, как, впрочем, и большие дяденьки, не любил этот угол, где такие недвижные прудочки, и этот угрюмый каменный грот…
После гимназии многие Денисовы сверстники подали в университет, другие, заклиная: «Петербург, Петербург», – в Медико-хирургическую, в Горный, в Технологический, а Волошин ни о чем слышать не желал, кроме Земледельческой.
Славно жилось в Петровском! Колокол сзывал на лекции, но можно было и не спешить: сам располагай временем – по традиции шестидесятых годов считалось, что силком к наукам не приохотишь. А полевые работы? А пасека? А посадки деревьев в парке?
Слушатели академии, не в пример университетским заморышам, глядели молодцами. Придерживаясь крестьянского быта, ходили в домотканых рубахах, иные и волосы под горшок стригли. По Москве щеголяли в сапогах и поддевках; там уж знали – петровцы. А жили артельно, в избах, на дачах. И мечтали о разумной и полезной деятельности в деревнях.
Но радовало все это недолго. Возвращались студенты после летних вакаций, рассказывали, «как оно в крестьянстве», про выкупные платежи рассказывали, про «податное бремя», давившее мужика, про бунты и неизбывное «ту-ру-ру» карательных отрядов. Из Питера наведывались коллеги (тогда-то и познакомился Денис с Михайловым), говорили, что народ ждет помощи от людей образованных, что интеллигенты живут на счет народа и обязаны отплатить ему с процентами. Иное настроение воцарилось в петровских артелях, иные речи зазвучали в рощах. К чему агрономия? К чему химия да ботаника? Зачем они, если крестьянская Россия ограблена царем-«освободителем», помещиками?
И Денис тоже ринулся «в народ»: надо было увидеть, узнать загадочного страстотерпца и труженика. У Невы-реки, прав Пушкин, у Невы-реки державное течение. Москва-река безнадежно обмелела. Казалось, искать там нечего. Былую вольницу, былой бунтарский дух искали на Волге, на Дону.
«Ходили в народ»… И что же, братцы, выходили? Не пристав захватит пропагандиста, так мироед руки за хребтом тебе скрутит. А то и мужик простой. «Возьмите, ваше благородие, пришлого смутьяна, книжки читает, инда страшно слушать: то о боге, то о царе…»
Не раз и не два Денис с Михайловым едва ноги уносили. А однажды, в Заволжье, с полицейскими чинами целый бой выдержали. Вплавь ушли.
Михайлов раскольниками увлекся. «Вот, – восхищался, – настоящий горючий материал! Первыми повстанцами будут!» Денис смеялся: «Горючий материал? Да они цигарку боятся запалить!» Спрашивал: «Ты что, позабыл, как Белинский в письме к Гоголю костит твоих раскольников?» А Михайлов: нет да нет, увидишь, Денис. Прилепился Саша к раскольничьим селам, молитвы-обряды па-зубок, старинные рукописи в Москве и Питере читал.
Денис подался южнее: в Ростовский уезд, в Таганрогский, Миусский. И косил, и молотил, всего отведал… Потом опять с Михайловым на Волге повстречался, в Саратове. Саша тогда «ходил» с Плехановым. Но уж от раскольников отступился. «Ладно, – говорил. – Подумаем и подведем итоги». Денис ответил: «Подумать-то, брат, никогда не мешает, но не сиднем же сидеть».
В ту пору захватила его мысль о партизанской войне. Попались ему в Саратове у местного доктора-библиофила мемуары Гаспарони, итальянского Робина Гуда, много лет воевавшего в горах с жандармерией. Прочел Денис и возгорелся: «Вот бы и у нас!» Михайлов спорил: «Срок не вышел». Однако соглашался – опыт партизанских боев очень может пригодиться.
И Денис махнул в Одессу. На Балканах славяне войну против турок подняли, русское правительство не препятствовало отправке добровольцев, хотя и не высказывалось одобрительно. Пароходом добрался Волошин до Рагузы, попал с несколькими земляками в Иностранный легион, которым командовал сербский генерал Любибратич.
Неразберихи хватало, проходимцев тоже. Но, в общем-то, народ подобрался храбрый. Были и гарибальдийцы. Вооружились чем ни попало. Сабли всем выдали, а вот огнестрельное – с бору по сосенке. У иных кремневые ружья. Несколько часов карабкались по горам, прибыли в Цетинью, столицу Черногории. С того дня началась боевая жизнь, и тогда-то вкусил Денис Волошин, что оно такое – «упоение битвой».
Отряд щипал турецкие блокгаузы. Зевать не приходилось, турки пленных не жаловали, кромсали саблями на куски. В черногорских деревнях радели волонтерам, последней лепешкой делились, ракией-водкой потчевали. А в боях, в разведках и вылазках пробавлялись галетами. С наступлением осенних дождей война утихла, да только Денису не повезло: всадил-таки турка пулю в плечо. Спасибо, в Цетинском госпитале русские медики выходили…
Два с лишним года не был Денис в Москве; вернувшись, не застал в живых отца, пришел в Донской монастырь на могильный холмик. Среди петровцев-студентов многих не досчитался. Но все же причалил Денис к академическому берегу, записался слушателем.
Ходоков «в народ» поубавилось. Нынче о другом говорили: землевольческие поселения. Да, теперь те, что остались, те, что уцелели, предлагали не бродить по деревням с книжками, а «врастать в крестьянство», действовать тишком, исподволь. После жизни на вершинах, как называл Денис черногорскую страду, не по душе ему пришлось направление революционной борьбы. Дениса теперь саднила мысль-мечта о боевой организации в России. Но тут таилась заминка, одно тормозящее обстоятельство, которое он одолеть не умел. Боевая организация предполагала безусловное подчинение личности. А безусловное подчинение личности таило опасность, о которой ему всегда напоминал полуразвалившийся грот, тот грот, что одни называли Ивановским, другие – Нечаевским.
В убийстве Ивана Иванова – из старых газет Денис все подробности вычитал – мнилась ему не ошибка, не частность… Так вот, мысль-мечта о боевой организации оставалась потаенной, заветной. И – пугающей. Как в детстве, этот угрюмый грот и тенистые, элегические пруды.
А покамест твердо нацелился Волошин кончить академический курс. Квартировал он на отшибе; коллеги-студенты обитали в Петровских выселках, что за озером, или же в одном из флигелей, которые красиво и спокойно полуобнимали площадь против главного академического здания; Денис же обосновался у пасечника-бобыля, подальше от суеты, подальше от спорщиков и виноплясок. Была особенная Волошину прелесть в добровольном уединении. Правда, относительном: ежедневно ходил в лаборатории, в лекционные залы. И всегда, при любой погоде, когда с пристальной радостью, а когда и с машинальной рассеянностью, вглядывался Денис в давно полюбившиеся окрестности бывшего имения Нарышкиных и Разумовских. Но милее всего была ему нынешняя пора – бабье лето.
* * *И на другой совсем стороне Москвы, далече от Петровской академии, тоже высокие стояли дни, лазурь и багрец. По началу осени бывает так нередко, да вот поди ж ты, всегда на удивление, словно бы впервые, и всегда нечаянной отрадой.



