Зот Тоболкин - Грустный шут
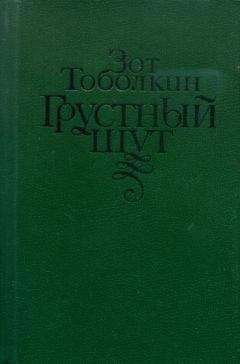
Обзор книги Зот Тоболкин - Грустный шут
Грустный шут
Памяти отца моего
Часть первая
И скоморох ину пору плачет
(Пословица)— Бойся, тятька! — хрипло выдохнул Тимка, прянул в сторону и сдул ржаную взмокшую прядь, застилавшую зеленые дерзкие глаза. Рука сама собою выхватила нож из-за опояски. Так уж приучена она, рука: голову спасает. Другая-то голова не отрастет: не хвост ящеркин. — На нас прет, ей-боженьки!
— Цыть, окаянный! — рявкнул Пикан. — Трясешь попусту имя господне!
Заломив полу кафтана, сунул за пояс, чтоб не мешала, и открылся хозяину. Медведь напирал, а ружьецо было разряжено. Рогатина обломана о другого медведя, шкура которого свешивалась с саней.
— Я молитвой его… Бог не оставит.
— Молитву на вечер береги, ежели хошь быть жив, — посоветовал Тимка, на случай отступая в кусты. Отец не слышал его, бесстрашно пер на медведя, словно зверь в нем проснулся, и — зверь на зверя: кто кого. Сошлись нос к носу, оба косолапые, бурые, оба в яростном исступлении. Отец тряс долгою бородищей, творя молитву, веруя в чудодейственность ее, а может, так, по привычке, — всюду с молитвой, — бормотал сумрачные слова. Медведь, вскинувшись на дыбы, прижался спиной к листвянке, ревел. В маленьких изумленных глазах, полных обиды и ярости, каталось по солнышку. И кровожадность, и свет этот добрый умещались в крохотных глазках, а мужик, обращенный спиною к солнцу, только что выбравшемуся из-за туч, забыв молитву и повторяя одно только слово «огради», наступал.
Медведь, оскорбленно, глухо уркнув, кинулся на Пикана, стиснул его передними лапами, норовя смрадной клыкастой пастью ухватить за лицо. Кряхтя и до кирпичной красноты тужась, Пикан заворачивал звериную башку назад. Когтистые лапы драли прочную одежу, бороздили тело.
— Именем господа, покорись! — требовал мужичище. Медведь орал, охаживая его справа и слева, — не молитва его донимала, боль и ярость.
Молчал лес, в иное время полный разнообразных звуков, треску, шороху, птичьего посвиста; скрипел снег под лапами и подошвами, слышались глухие шмякающие удары, пых, возня, а порою рев. Медведь и человек, словно сговорившись, вскрикивали вместе густыми низкими голосами, потом замолкали, и сила возникала на силу.
Тревожась за отца, Тимка кинулся было на выручку, но Пикан яростно осадил:
— Не ле-езь! Сам… сам справлю-усь! — и последним страшным усилием запрокинул медведя на спину. Шея ли звериная слаба оказалась, руки ли помора, привыкшие к веслам и к топору, дюжи нечеловечески, но человек одолел. Сучила ногами зверюга (медведицу распознали), била мордою оземь, сбрызгивая кровавую пену, но все было кончено.
— Добить ее? Дорезать? — пытал Тимка. Нож нацелился под медвежью лопатку. Мигни отец — войдет молнией.
— Вяжи… домой уведем, — а когда Тимка подскочил к нему с плетеными ременными вожжами, прикрикнул: — Да морду, морду сперва! Смрад нестерпимый!
На морду накинули недоуздок.
Отец брезглив: дурного запаху не выносит. Всю зиму в горнице мяту держит, по весне багульником изгоняет избяной устойчивый запах, растворяя настежь окна.
Нехорошо, гнило несло от медведицы. Увидав под зверем кучу, Иван сердито сплюнул:
— Тьфу, нечисть! Вяжи скореича!
Стянув пасть зверюге, перевязал лапы ее, оставив запас для малого шага, Тимка нацепил на измятую шею медведицы поводок. Вязал, что-то шепотком наговаривал. Зверь поначалу бился, сучил лапами, потом расслабленно вытянул конечности, покорился.
— От молитвы рассолодела, — усмехнулся Тимка, приоткрывая широкие зубы. Зубов, казалось, у него больше, чем у всех прочих людей. И крепки они, как якоря самокальные. Частенько бивали за дерзкий язык по зубам, аж голова дергалась, били, а он хоть бы что. Зато как сам дюзнет сплеча, драчуны рядками кусачки свои сплевывают. Лют, лют в драке Тимка! Но дерется с улыбкой: дескать, бью не потому, что гневаюсь, а чтоб уму-разуму научить. Сказать правду, с виду парень некрупный, но жиловат, тверд, как лошадиное копыто, и увертлив. Весь в кулаки ушел да в улыбку. Улыбка приметная, от уха до уха. А по рукам, ручейково вздуваясь, текут взбухшие вены. И лоб пропахан могучими стариковскими морщинами. Глаза и зубы отчаянны, дерзки, а морщины словно грустят. И когда шутит, а шутит он постоянно, за словами печаль какая-то слышится, преждевременная, не юношеская печаль.
— Вишь, кучу, кхх… добра навалила… за молитв святых отец наших…
— Нишкни, барменок! — Дюжий кулак отцовский взвился над Тимкиной головой. Да просто ль достать эту бедовую голову: вертуч, змей! — В силу чудесную веры не имаешь? А она, вишь ты, зверину дикую укротила…
— Укротила… твоими руками, — щекоча вздрагивающую медведицу еловой лапой, мыл зубы озорной сын. Сколь ни выбивал из него Иван скоморошьи замашки — дурню неймется. За паужиной, бывало, сидит народ, лишнее слово опасаются вымолвить. Этот брякнет впопад — все ложки перед ртами зависают. Давятся гости от хохоту. Отец по лбу его, да уймешь ли, когда самого в смех тянет. Такое дите сатанинское, ни в мать, ни в отца: со смешинкой родился. Как голос подал, из материнского чрева явившись, думали, плачет… Из-за стола повыскакивали: за рождественским утренником шаньги да пироги ели. Стали ахать, роженице соболезновать, а он на руках у кумы вьется, ручонками машет, сучит ножонками, во рту два резца молочными каплями светятся..
— Едок родился! — обрадовалась кума, поднося младенца к отцу. — За стол сажайте!
Есть еще у Пикана сын старший, Митя, в отца рослый, да не в него тихий, доброты небесной паренек. Дочь Авдотья, тоже кроткая, незлобивая девушка. Волосом коричнева, глазами синя, и голосок голубиный, баюкающий. Митрий и Тимка в мать светловолосые, глаза у обоих зеленые, материнские. Только у Мити они кроткие, лучистые, у Тимки — пронзительно студеные, и в каждом по бесу играет.
Ишь чего вытворяет, идол! Вскочил на хребтину медведице и погоняет.
— Но, буруха! Нно, пошла! — и пятками ее по ребрам, кулаком по загривку. — Русь побольше тебя, да оседлана. А ничо, везет! Но, страшило лесное!
И вняла ведь тварь, повезла парня. Откуда в дикой послушанье взялось? Или впрямь звери бессмысленные сына младшего понимают? Не раз примечал Пикан: необъяснимую страшную власть имеет Тимка над животиной. Бывало, олешка поймает лесного, тот как собачонка за ним по пятам ходит. Раз волчонка принес из лесу. Все говорил с ним, приучал, будто язык звериный знал. Из одной миски ели, спать вместе ложились. За это Иван отрешил сына от общего стола. А Тимке и горя мало. Видно, не зря Бармой прозвали. Барма — место глухое, дикое. Там Тимка от отцовского гнева спасался — месяц не видывали его. А провинился в том, что на иконе соскоблил лик богородицын и вместо него нарисовал Потаповну… Думали, сгинул, а он живехонек объявился с тем же волчонком, заволосател, одичал, только что не урчит. С тех пор Иван боя шибкого опасался: парень-то с норовом, гордость в нем сатанинская. Чуть обидишь — снова исчезнет, ищи его тогда, свищи. Да и чего зря строжиться: прежнюю веру Пикан, не в пример отцу-покойничку, блюдет слабо. Тот спалил за нее, за прежнюю-то веру, себя и еще тридцать единоверцев. Сжег бы сына и внуков с ним вместе, да семья Пикана в тот год была у царя в работниках. Под конвоем из Светлухи угнали. И кнута отведал Иван, и на дыбе висел, а и звать не стоило: дали топор в руки — упрямства как не бывало. Опьянел Иван от терпкого запаха щепы, оглох от топориного звону. И сыновей словно приворожил кто-то: с утра до ночи гнулись на верфи. Рос остов корабля, поднимались борта, высились мачты. И пока не пустили его на воду, пока не вздулись тугие паруса, не плеснула волна, рассеченная надвое, Пикан с сыновьями ходили шалые. Дуня и Потаповна и домой их не звали: харчи прямо на леса приносили.
Случалось, и царь под началом Пикана плотничал; чуть что не так, покроет Пикан самодержца самыми скверными словами, но тут же, опомнясь, примется виниться перед Спасителем: «Прости, господи, раба твоего многогрешного…» Петр Алексеевич гогочет, словно гусь по осени, и окруженье, ему в угоду, ржет. Иван больше того гневается: чего под руку лезут? Сгоряча — и такое бывало — толкнет кого-либо без всякого почтения к сану. Однажды самого ратмана за борт скинул.
— Попомнишь, смерд! — скрипнул зубами опозоренный ратман. Сам был дворовым когда-то, запамятовал. Из прибыльщиков в большие выбился.
— От смерда слышу! — самолюбиво срезал Барма.
Сильно поглянулось Ивану гордое непокорство сына: «В меня дерзок, поганец! Немало за то натерпится!» Порядка ради стегнул Барму опояской. Да что опояска, когда об него только что кулаки обламывали.
…Медведица-то как чешет — на коне не угнаться! Рыжко трусит неспешно, розвальни на раскатах заносит. В них туша да шкура медвежьи. Славно поохотились ноне, сла-авно!



