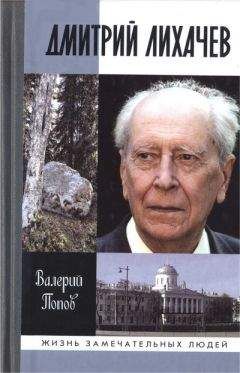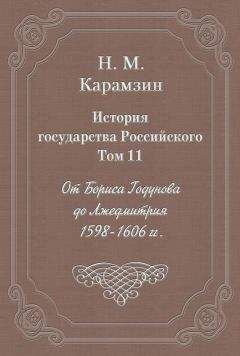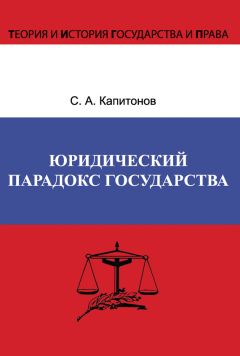Дмитрий Лихачев - Раздумья
Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.
Свой куоккальский озорной характер Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева.
Жил Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате двадцать шесть. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному — Ужское) было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю».
Веселая и озорная дачная жизнь Куоккала приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук — точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.
Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется, талантливых озорников. В Куоккале мы жили недалеко от «Пенат» Репина. Илья Ефимович очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали в одежде, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками.
О Куоккала, как о родине европейского авангардизма, стоило бы мне написать отдельно. (Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше.) В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы у Н. Заболоцкого. Я и до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство — в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.
Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» — беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям.
Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бёндзе!» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! «Цото бендзе» и для вас, и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.
И еще одно сильное впечатление в Куоккале.
В Пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, в Куоккале разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!
Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников.
Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться «под парусом» вполне домашнему мальчику — внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешение прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только — не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер, тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу, за загородкой из простыней, загорал проректор Петербургского университета красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, — о ужас! — в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет».
Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда что-либо внезапно случалось неприятное.
А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел — то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буковками «С. Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.
Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией. Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды, в особенно сильную бурю, кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю лишь обманчивого берегового ветра.
Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.
И опять «связь времен».
Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.
УНИВЕРСИТЕТНаиболее важный и в то же время наиболее трудный для своей характеристики период в формировании моих научных интересов — конечно, университетский.
Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще семнадцати лет, не хватало нескольких месяцев. Поступить в университет было трудно.
Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин — известный болгарист и будущий академик.
Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» — по признаку, кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные», обращаясь к студентам, говорили «товарищи», «старые» профессора говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересным.
Я поступил на факультет общественных наук. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование.
Были «вечные студенты» — работавшие и учившиеся по десять лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках.
На факультете были отделения. Было общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, — здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.
Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы («спецкурсы» по современной терминологии). Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру; слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича; принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова; слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского; слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других; посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения. Пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло). Посещал концерты симфонического оркестра в филармонии.