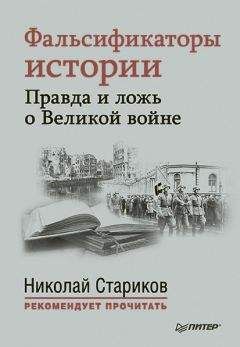Дэвид Уоллес - Интервью Ларри Макэффри с Дэвидом Фостер Уоллесом
ДФВ: Про Джеймисона я знаю немного. Для меня рэп — максимальный дистиллят восьмидесятых США, но если отступить и подумать не только о политике рэпа, но и любви белых к нему, все вдруг становится мрачно. Сознательный ответ рэпа на нищету и подавление американских черных похож на какую-то жуткую пародию на черную гордость шестидесятых. Похоже, мы в эре, когда подавление и эксплуатация больше не объединяют людей, не укрепляют лояльность, не помогают всем подняться над личными проблемами. Теперь ответ рэпа больше такой: «Вы нас эксплуатировали, чтобы разбогатеть, так что идите к черту — теперь мы будем сами себя эксплуатировать и сами разбогатеем». Ирония, жалость к себе, ненависть к себе теперь осознаны, подчеркнуты. Это связано с тем, о чем мы говорили, когда упоминали «Наш путь» и постмодернистскую рекурсию. Если у меня есть настоящий враг — отец для моего отцеубийства — то это как раз скорее Барт, Кувер и Берроуз, даже Набоков и Пинчон. Потому что, хотя их самосознание, ирония и анархизм и служили ценным целям и были необходимы в их время, поглощение их эстетики американской коммерческой культурой имело ужасные последствия для писателей и всех остальных. Эссе о ТВ на самом деле о том, какой ядовитой стала постмодернистская ирония. Это видно на примере Дэвида Леттермана, Гари Шэндлинга и рэпа. Но также это видно в чертовом Раше Лимбо, который вполне может оказаться Антихристом. Это видно и в Т.К. Бойле, и Билле Воллмане, и Лорри Мур. Вполне заметно и в твоем приятеле Марке Лейнере. Лейнер и Лимбо — башни-близнецы постмодернистского юмора 90-х, веселого цинизма, ненависти, которая подмигивает, подначивает и притворяется, что только прикалывается.
Ирония и цинизм — именно то, что призвало лицемерие США пятидесятых и шестидесятых. Именно они сделали ранних постмодернистов такими великими писателями. Самое замечательное в иронии — что она разделяет объекты, поднимается над ними, чтобы мы разглядели все пороки, лицемерие и двойные стандарты. Добро всегда побеждает? Уорд Кливер — прототипичный отец пятидесятых? «Ну конечно». Сарказм, пародия, абсурдизм и ирония — прекрасные способы сорвать маску со всего и показать за ней неприятную реальность. Проблема в том, что как только будут развенчаны правила искусства и как только неприятные реальности, диагностированные иронией, будут раскрыты и диагностированы, что «потом»? Ирония полезна для развенчивания иллюзий, но все иллюзии в США уже развенчаны и переразвенчаны. Как только все поняли, что равенство возможностей — фальшивка, и Майк Брэди — фальшивка, и Просто Скажи Нет — фальшивка, что делать потом? Кажется, все, чего мы хотим — продолжать высмеивать. Постмодернистская ирония и цинизм стали целью, мерой веселой изощренности и литературной смекалки. Мало кто осмеливается пытаться говорить о том, как искупить все то, что неправильно, потому что умудренным иронистам такие люди покажутся сентиментальными и наивными. Ирония перешла от освобождения к порабощению. Есть одно замечательное эссе, в котором была фраза, что ирония стала песней заключенного, который полюбил свою клетку.
ЛМ: Гумберт Гумберт, похотливая горилла, описывает прутья собственной клетки с невероятной утонченностью. По сути, пример Набокова поднимает тему иронии и цинизма. В «Бледном огне» и «Лолите» есть ирония о структурах, изобретениях и так далее, но эта реакция исключительно гуманистическая, не ироническая. Это истинно и для Бартельми, например, или Стэнли Элкина, Барта. Или Роберта Кувера. Другой аспект касается презентации их самих и их сознаний. Красота и великолепие искусства человека ни в коей мере не ироничны.
ДФВ: Но ты говоришь о щелчке, о том, что наши постмодернистские предки не могут передать потомкам. Несомненно, некоторые из ранних постмодернистов, иронистов, анархистов и абсурдистов проделали великолепную работу, но невозможно передать щелчок от одного поколения к другому, как эстафету. Щелчок идиосинкразический, личный. Единственное, что писатель может унаследовать от предка по искусству — определенную совокупность эстетических ценностей и убеждений, и, может, совокупность формальных техник, которые, может быть, — но только может быть — помогут писателю найти собственный щелчок. Проблема в том — как бы ее не недооценивали — что от постмодернистов к нам пришли сарказм, цинизм, маниакальная тоска, подозрение к любой власти, подозрение к любым ограничениям поведения и ужасная жажда иронического диагноза неприятностей вместо амбиции не только диагностировать и высмеять, но и искупить. Надо понять, что это все пронизало культуру. Это стало нашим языком; мы настолько в этом, что даже не понимаем, что это лишь одна точка зрения, одна среди множества. Постмодернистская ирония стала нашей средой.
ЛМ: Массовая культура — очередная очень «реальная» часть этой среды: рок, или телевидение, или спорт, ток-шоу, игровые шоу, неважно; это окружение, в котором мы живем, то есть — это наш мир…
ДФВ: Я всегда озадачиваюсь, когда критики относятся к отсылкам к популярной культуре в серьезной литературе как к какой-то авангардной стратагеме. В мире, в котором я живу и о котором пытаюсь писать, это неизбежно. Уйти от любой отсылки к поп-культуре значит либо быть ретроградом в плане того, что «разрешено» в серьезной литературе, либо писать о каком-то другом мире.
ЛМ: Ты ранее упоминал, что писать «Метлу системы» было для тебя перерывом — отдыхом от чисто технической философии. Ты еще можешь войти в этот «режим перерыва»? Это для тебя все еще «игра»?
ДФВ: Это больше не игра в духе смешков, приколов и возбуждения нон-стоп. То в «Метле», что строилось на подобной игре, в итоге оказалось легко забываемым, как мне кажется. И это не очень долго поддерживает весь проект. И я обнаружил, что это весьма непросто дисциплинировать себя так, чтобы играть в литературе, не поддавшись притом неуверенности, или тщеславию, или эго. Показывать читателю, что ты умный, или смешной, или талантливый, или еще что, пытаться понравиться, отбросив цельность — в этом всем просто недостаточно мотивационных калорий, чтобы поддерживать тебя в течении долгого времени. Надо дисциплинировать себя говорить от той части, что любит текст, любит то, над чем ты работаешь. Может, просто любит. (По-моему, здесь уместно вставить качающиеся ивы, ЛМ). Но сентиментально или нет — а это правда. Последняя пара лет была для меня довольно засушлива в плане хорошего творчества, но если я в чем-то и прогрессировал, то, по-моему, в том, что убедился, что в хорошей литературе есть что-то вневременно жизненное и священное. Это не сильно связано с талантом, даже с таким блестящим талантом, как у Лейнера, или серьезным, как у Дейч. Талант — лишь инструмент. Это как иметь ручку, которая пишет, вместо ручки, которая не пишет. Не говорю, что могу последовательно разложить это все по полочкам, но кажется, будто огромная разница между хорошим искусством и так себе искусством лежит где-то в сердце цели искусства, в подоплеке сознания, стоящего за текстом. Это как-то связано с любовью. С тем, что говоришь из той части себя, что любит, вместо той, что хочет быть любимой. Знаю, это звучит совсем не весело. Не знаю. Но кажется, что то, что делают реально великие писатели — от Карвера до Чехова, до Фланнери О’Коннор, или как в «Смерти Ивана Ильича» Толстого или «Радуге тяготения» Пинчона — это «дают» что-то читателю. От реального искусства читатель уходит тяжелее, чем когда он к нему приходил. Полнее. Все внимание, вовлечение и усилия, что ты требуешь от читателя, не могут быть только ради твоей пользы; они должны быть ради него. Что особенно ядовито в современной культурной среде — из-за нее страшно жить дальше. Реально хорошее творчество, вероятно, исходит из готовности раскрыться, открыть себя в духовном и эмоциональных планах, так, что рискуешь сам что-то реально почувствовать. Быть готовым как бы умереть, чтобы как-то тронуть читателя. Даже сейчас, говоря это, мне страшно представить, как сентиментально оно будет выглядеть в печати. А чтобы пойти на это, а не просто говорить, нужна особая смелость, которой кажется, у меня еще нет. Я не вижу этой смелости в Марке Лейнере, Эмили Прагер или Брете Эллисе. Иногда вижу ее проблески в Воллмане, Дейч, Николсоне Бейкере, Эми Хоумс и Джоне Франзене. Это странно — это связано с качеством текста, но не очень связано с чистым писательским талантом. Это связано с щелчком. Раньше я думал, что щелчок происходит из «Твою мать, неужели я наконец-то сделал что-то хорошее». Теперь мне скорее кажется, что настоящий щелчок исходит из «Вот что-то хорошее, и, с одной стороны, я здесь не очень важен, и, с другой стороны, отдельно взятый читатель здесь, может быть, тоже не очень важен, но это хорошо, потому что тут есть некая извлекаемая ценность и для меня, и для читателя». А может, все просто — надо писать более щедро и менее зацикленным на эго.