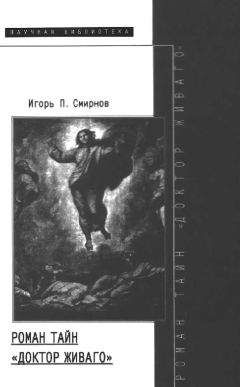Эрих Ремарк - Эпизоды за письменным столом
Значительное отличие романа «На Западном фронте без перемен» от нового фильма состоит в том, что роман содержит весьма впечатляющие батальные сцены, а «Время жить и время умирать» их вообще не содержит. В этом фильме нет ни одного вражеского солдата, но разрушений намного больше, чем в первой войне. Враг здесь невидим. Смерть падает с неба. Окопная война — пройденный этап: линии фронта повсюду. Война солдат — тоже пройденный этап: тотальная война направлена на каждого. Война героев — опять-таки пройденный этап: можно спрятаться, но нельзя защититься. Когда-нибудь в будущем несколько человек будут нажимать на кнопки — а миллионы умирать страшной смертью. Проблема войны состоит в том, что люди, которые ее хотят, не ожидают, что на ней им придется погибнуть. А проблема нашей памяти — в том, что она забывает, изменяет и искажает, чтобы выжить. Она превращает смерть в приключение, если смерть тебя пощадила. Но смерть — не приключение: смысл войны в том, чтобы убивать, а не выживать. Поэтому лишь мертвые могли бы рассказать нам правду о войне. Слова выживших не могут передать ее полностью, а фильмы иногда могут. Наше зрение более обманчиво, чем слово. Надеюсь, этот фильм тоже сможет.
(1957)
«Об Эйхманне и его сообщниках»
Эта книга — одна из важнейших и наиболее поучительных работ, опубликованных за послевоенное время. Она выходит далеко за пределы своей темы и представляет собой не только описание Эйхмана, его мотивов, его подручных, его начальников и его поступков, но кроме всего этого здесь дана еще и неопровержимая, объективная и поэтому тем более ужасающая картина национал-социализма вообще — неопровержимая и объективная потому, что книга эта в основном состоит из документов, которые в ней цитируются, воспроизводятся в виде фотокопии и предлагаются для чтения в таком количестве, что на каждой странице приходится с содроганием признавать: здесь сталкиваешься с фактами, а не с мрачным и ужасным призраком, — и даже можешь констатировать, как именно случилось, что люди ему поверили и что большая часть народа — интеллигентного, цивилизованного и чересчур преклоняющегося перед авторитетами — загоняла других и самих себя в эту трясину бесчеловечности, хотя и не осознавала этого.
Но и еще кое-что возникает здесь — кое-что, кажущееся едва ли не более ужасным, чем даже самый жестокий садизм. Это — мелкобуржуазный бюрократизм такого садизма, многократно подтвержденный в книге бесчисленными документами. Там обсуждается умерщвление сотен тысяч беспомощных, ни в чем не повинных людей, словно они — не люди, а вредные насекомые, уничтожаемые стражами порядка — камергерами, — и сообщается о бесконечных поездах, полных отчаявшихся женщин и детей, посылаемых на смерть, — сообщается так, будто это — отчет бухгалтеров, инспекторов и администраторов фирмы, продающей картофель, о результатах финансового года, — о том, каким образом удалось приобрести в Венгрии особенно удачную партию, о том, что в других странах почти точно установлено наличие больших складов, и о том, как можно организовать транспортировку их содержимого, — все это сухо, по-деловому, без неприличных выражений типа «смерть» или тем более «убийство»; разве что упоминаются слова «окончательное решение» и «ликвидация» — так, будто речь идет об уничтожении старого товара до прибытия нового. При особо выгодных сделках, когда удалось найти возможность приобрести или сбыть на несколько сотен тысяч больше, обмениваются взаимными поздравлениями, произносят тосты во славу эффективной деятельности фирмы «ООО Гестапо» и за роскошно накрытым столом тают от дружеских чувств. Ничего, кроме возмущения, не вызывает вид этих мелких служащих массового уничтожения, занимающихся своим ежедневным делом, не испытывая угрызений совести, словно они продают марки, сидя за окошком на почте, а вовсе не миллионы человеческих жизней.
Они — не Аттилы, не Чингисханы, они — рьяные, услужливые, озабоченные своей карьерой деловые люди, стремящиеся обогнать друг друга по убийствам, дабы выглядеть еще более усердными в глазах начальства, они — соотечественники и отцы семейств, трудящиеся в поте лица на благо отечества и имеющие право на пенсию, они — мужья, спокойно спящие ночью и хранящие супружескую верность, которые рассылают в пяти экземплярах распоряжения, обрекающие на верную смерть целые народы, — и все это делается спокойно, согласно моральной максиме палачей и холопов: «приказ есть приказ», нам за это ничего не будет, у нас есть прикрытие, — согласно этой морали трусов, которую мрачная ирония превратила в девиз расы господ.
Автор присовокупляет к документам, которые он предъявляет читателю, необходимые комментарии. Они дополняют картину ужасов. Из них видно, что многие из этих людей после нескольких лет тюрьмы или плена давно выпущены на свободу или помилованы. Человеческие жизни тогда стоили дешево, и они выгадали на этом, а также на старом девизе-прикрытии: «Что мы могли поделать, ведь приказ есть приказ?
А мертвые все равно уже были мертвы, и ничто уже не могло их оживить. И потом — разве не были уничтожены также и миллионы немцев? И не лучше ли вспомнить, что творилось в мире в ту пору — кровавая сага из мрачной предыстории человечества, когда человек еще не был человеком, а вовсе не из двадцатого века, когда человек уже опять перестал им быть?»
Доктор Кемпнер проявил в своей книге уникальное знание материала и использовал громадный накопленный им практический опыт. Перед захватом власти нацистами он работал на высоких должностях в Министерстве внутренних дел Пруссии, а после крушения гитлеровского рейха — на важных постах в Нюрнбергском процессе, под конец — главным обвинителем в процессе по делу Вильгельмштрассе. Он — авторитетная фигура в международном уголовном праве и по приглашению Генерального прокурора участвовал также в дискуссиях по процессу Эйхмана в Израиле. Его книга отличается не только лаконичностью стиля, великолепным знанием дела, объективностью и личным знакомством с большинством упоминаемых в книге персон — как обвиняемых, так и свидетелей, — но также и великой любовью, не мешающей объективности: любовью человека к страдающим людям, любовью к справедливости. Она написана не для того, чтобы возродить ненависть и неприятие, а с одной-единственной целью: ничего не забыть, дабы это не могло повториться, ибо человек, по-видимому еще не так далеко ушел от своего кровавого прошлого, чтобы можно было предаваться слишком большим иллюзиям насчет долговечности понятий «справедливость» и «человечность».
(1961)
Фронтальный анализ войны и мира
Те, кто полагал, что с кончиной Тысячелетнего рейха освобождение немецкой литературы произойдет моментально, как взрыв, испытали глубокое разочарование. Ничего подобного не случилось. Ни штурма, ни обвинения, ни мятежа. Тишина — и только потом, очень медленно, нерешительное, осторожное нащупывание пути к прошлому, да и там не к крайностям, не к рискованным экспериментам, а скорее к чему-то надежному, пусть и весьма посредственному, зато обладающему гарантией надежности.
Однако и от этого вскоре отказались; после многих лет глубочайшей неуверенности хрупкое очарование этого пути оказалось мимолетным. Теперь можно было бы предположить, что чудовищный переизбыток потрясений последних лет, когда один-единственный день мог стать материалом для целой писательской жизни, теперь насильственно пресечен, — но произошло нечто прямо противоположное: из-за того что эти потрясения внезапно соскользнули в прошлое, они какое-то время стали казаться странно нереальными и перекроили настоящее в призрачную пустоту. Слишком много всякого стряслось в этом прошлом, чтобы слово вновь могло служить своему делу, — а там, где его возрождение произошло быстро, как это случилось при нескольких первых попытках, оно было встречено с недоверием и почти всегда казалось слишком патетичным. Оно не соответствовало духу времени; но и нового слова тоже не было. Поначалу все подвергалось сомнению. Слишком многое рухнуло — как в городах, так и в душах.
Нужно было искать новые понятия и новые слова, причем искать глубже, чем раньше, и намного осторожнее, дабы не заплутать вновь в Лабиринте пестрых полуистин. Все было не так, как после Первой мировой войны. Тогда реакция на войну в драме, лирике и эпосе последовала быстро и бурно (Хазенклевер, Толлер, Леонгард Франк, Верфель, Эренштайн и др., экспрессионизм, новая живопись, хотя и в ту пору прошло еще десять лет, прежде чем хлынул поток высказываний о войне (не считая неизбежных генеральских мемуаров).