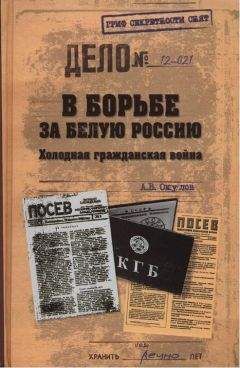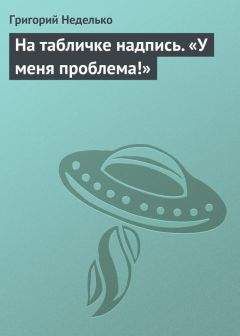Лилия Бельская - «Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии
Пушкину не было еще и 20 лет, когда он выделил два главных чувства, которые будут вдохновлять его всю жизнь — «любовь и тайная свобода» («Любовь и дружество до вас дойдут / Сквозь мрачные затворы», «Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум»). (Пройдёт сто лет, и пушкинская юношеская клятва отзовётся в последнем блоковском стихотворении «Пушкинскому Дому»: «Пушкин, тайную свободу / Пели мы вослед тебе».) В том же самом послании «К Р.Я. Плюсковой» (1818) юноша произнесет фразу, оказавшуюся впоследствии пророческой: «И неподкупный голос мой / Был эхо русского народа». Через много лет образ эха возникнет в одноименном стихотворении, но не в патетическом, а в элегическом ключе: «Тебе же нет отзыва. Таков и ты, поэт» («Эхо», 1831).
У Пушкина встречается масса формулировок, касающихся поэзии и стихов — «союз волшебных звуков, чувств и дум», «поэзии священный бред», «плоды моих мечтаний и гармонических затей», «изнеженные звуки лиры»; стихи — послушные, неясные, печальные, опасные; стих — молитвенный, холодный, туманный, дидактический, благоразумный; «коварные напевы», «сладкозвучные строфы», «мои летучие творенья», «лира вдохновенья». Одну из самых развернутых концепций своего творчества он дает во вступлении к «Евгению Онегину»:
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, лёгких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Считая свою Музу «своенравной», поэт то заявлял: «Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв» (что впоследствии стало девизом сторонников «чистого искусства»); то призывал «музу пламенной сатиры» вручить ему «ювеналов бич». Но всегда основную составляющую творчества усматривал в долгом, многолетнем и вдохновенном труде — «труд, молчаливый спутник ночи», «живой и постоянный, хоть малый труд».
В отличие от стихотворцев XVIII в., которые в своих «штудиях» объясняли, как следует писать, что лучше — ямб или хорей, чем отличается хорошая рифма от плохой, Пушкин раскрывал «стихов российских механизм» на собственном примере, показывая, какие жанры, размеры, ритмы, строфы, рифмы он употребляет и почему и как любую мысль может воплотить в стихи («Домик в Коломне», «Рифма, звучная подруга…», «Прозаик и поэт»).
Приглашая читателей в свою поэтическую лабораторию, Пушкин не раз описывал и творческий процесс. Вслед за Вяземским («К перу моему», 1816) он обращался к орудиям писательского труда — «К моей чернильнице» (1820). Но если первый был недоволен своим пером из-за нечистого слога, неточных выражений и хотел расстаться с ним, пусть ненадолго; то второй, напротив, хвалил своё перо и чернильницу за то, что они помогают ему найти
То звуков или слов
Нежданные стеченья,
То едкой шутки соль,
То правды слог суровый,
То странность рифмы новой,
Не слыханной дотоль.
Правда, иногда случалось, что муза дремлет и шепчет «несвязные слова», и «к звуку звук нейдет», и стих «вяло тянется» («Зима. Что делать нам в деревне?», 1829). Но когда душа встрепенется, «как пробудившийся орел», тогда пробуждается и поэзия.
Душа стесняется лирическим волненьем <…>
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы тянутся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
В своем знаменитом «Памятнике» (1836) Пушкин поставил себе в заслугу не просто воспевание «любви и тайной свободы», как в юности, а пробуждение «чувств добрых» и милосердия и прославление свободы в «жестокий век».
Послепушкинские литературные поколения боготворили великого поэта и почитали в нем «наше — всё». Лермонтов, в котором угадывали наследника Пушкина, восхищался его «дивным гением» и «свободным, смелым даром», но не желал ему подражать, как и Байрону,«Я другой, еще неведомый избранник». И хотя в ранней лермонтовской лирике проскальзывали пушкинские нотки («звуки громкой лиры», «вдохновенный труд»), но уже с самого начала в ней появляются иные мотивы и образы. Так, в «Песне барда» (1830) разочарованный герой бросает на землю гусли и топчет их ногами. А в стихотворении «Пускай поэта обвиняют…» (1831) песнь автора «свободно мчится, как птица дикая в пустыне, как вдаль по озеру ладья». И позднее сравнительные обороты — излюбленный приём Лермонтова: «На мысли, дышащие силой, / Как жемчуг, нижутся слова», «И рифмы дружные, как волны, / Журча одна вослед другой, / Несутся вольной чередой».
По-своему юный стихотворец мечтал и о славе: «Я рождён, чтоб целый мир был зритель / Торжества иль гибели моей» (1832). Он хотел бы добиться совершенства во всем и создать «высокие» песни, чтобы их хвалили потомки, но знает, что «вечно слава жить не может» (1831). Лермонтовские отзывы о собственных стихах исполнены и трагизма, и веры в свою гениальность («повествованье горькой муки», «моя пророческая речь»). Поэт то в «горьких строках» предаёт позору людские пороки, то славит «из пламя и света рождённое слово».
А два самые известные изречения Лермонтова можно поставить эпиграфами к его поэтическому творчеству. Одно — о его стихе: «железный стих, облитый горечью и злостью». Другое — о роли поэзии в мире:
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.
Так за несколько лет поэт прошел путь от юношеских мечтаний о личном торжестве к пониманию необходимости общественного служения.
У двух лермонтовских современников, также вошедших в скорбный мартиролог рано погибших российских литераторов, — Кольцова и Полежаева не было притязаний ни на вечную славу, ни на сравнение своей поэзии с колоколом. Первый обладал «песенным даром», но посмеивался над ним («докучные строки», «звуки самодельной лиры», «грешный бред») и над собой: «Я такой поэт, что на Руси смешнее нет». Второй обнаруживал в своих стихах «след сатир и острых слов», но не слышал в них «волшебных звуков песнопенья», а себя считал «добычей гнева и стыда» и «певцом, гонимым судьбой» (ср. у Лермонтова «гонимый миром странник»). Оба они посвящали стихотворения памяти «умолкшего» Пушкина, восторженно именуя его «царем сладких песен», гением и народным поэтом, «величайшим и благородным, как широкий океан», принесшим в мир «райские» песни, «силу творчества» и «жар вдохновенья».
После Пушкина многие стихотворцы, освещённые «солнцем русской поэзии», свой «малый труд» оценивали невысоко, но соглашались с некрасовским постулатом: «Нет, ты не Пушкин. Но покуда / Не видно солнца ниоткуда, / С твоим талантом стыдно спать…» («Поэт и гражданин»). К. Павлова, к примеру, определяя свой труд как ежедневный и упорный, уподобляла его плугу, сеющему семена (ср. с пушкинским «Свободы сеятель пустынный»). При всех её пренебрежительных самооценках («стих мой бедный», «речь бледная», «смолкнувшее слово») именно ей принадлежит антитезно-оксюморонный афоризм, ставший крылатым: «Моя напасть, мое богатство, / Мое святое ремесло» (1854). Если Лермонтов говорил, что он, как Байрон, странник, «но только с русскою душой», то Павлова, будучи по рождению не русской, подчеркивала: «Стихи здесь русские пишу я / При шуме русского дождя» (1840). А Тютчев, который, несмотря на многолетнее пребывание за границей, великолепно владел русской речью, называл её самым святым, что есть у него, — муза хранит благородно «залог всего, что свято для души, родную речь». И эмигрант Н. Огарев, продолжая писать стихи по-русски, скажет о них: «Мой русский стих, живое слово, святыни сердца моего» (1864).
В русской литературе середины XIX в. наметилось два направления — «чистое искусство» и гражданское. В первом «гармонии стиха божественные тайны» — это «венец познанья, над злом и страстью торжество» (А. Майков); поэзия «на бунтующее море льёт примирительный елей» (Ф. Тютчев); «появиться рад мой стих, где кругом цветы и краски» (А. Фет); «поэт, державший стяг во имя красоты» (А.К. Толстой). Эти поэты редко высказывались о своих сочинениях, предпочитая рассуждать о закономерностях поэтической речи или используя обобщённое «мы»: «Возвышенная речь достойной хочет брони; / Богиня строгая — ей нужен пьедестал» (Майков); «Мысль изречённая есть ложь», «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовётся» (Ф. Тютчев); «Как беден наш язык!», «Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам» (А. Фет). А вот вопрос о долговечности художественного слова они решали по-разному. Тютчев был настроен скептически, полагая, что хотя поэт «всесилен, как стихия», но не властен ни над собой, ни над временем, и «рука забвения» свершит свой «корректурный труд» (у Державина «время всё поглотит»). Фет же верил, что увядший, иссохший листок «золотом вечным горит в песнопенье».