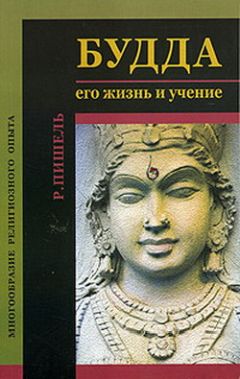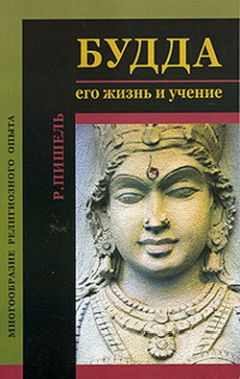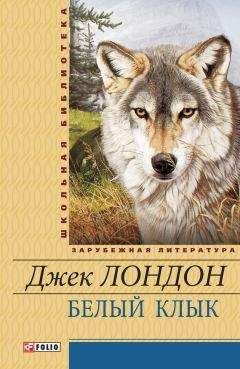Никита Елисеев - Против правил (сборник)
Стрельников не менее риторичен и патетичен, но его патетика, его риторика… человечнее. «..Мы жизнь приняли как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они». Логика, разумеется, тоже «из нашего арсенала». Мне в этом случае представляется такой диалог:
«Позвольте, да вы же мне все зубы вышибли?» – «Так ведь из любви же! И как я страдал, покуда ваши зубы выхлестывал! Вы просто представить себе не можете, как я страдал!»
Но эмоция убеждает, поскольку накануне самоубийства обложенный, как волк, сильный человек спешит оправдаться, спешит объяснить свою жизнь – и это не может не вызвать сочувствие, едва ли не уважение. В конце концов, революционер, который остается верен себе, который и пулю в себя пускает, чтобы не измениться, чтобы не изменить и чтобы не позволить другим изменить себя, человечнее поэта, в начале социального катаклизма с восторгом проповедующего: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости… В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого», – а в самом разгаре «хирургической операции» растолковывающего своему приятелю, вернувшемуся из ссылки: «Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама себя объезжала в манеже». Какая ж «хирургия» без репрессалий! Это уже не хирургия, а гомеопатия.
«Великолепный хирург», Стрельников подобных противоречий в себе не потерпит, может быть, поэтому его самоубийство кажется выходом, а не тупиком. Все читающие и читавшие роман знали и знают, что ожидало таких, как Стрельников: арест, допросы, процесс, расстрел. Самое главное – его ожидала даже не смерть, а перемалывание, переламывание перед смертью. Вот этого он избег своим самоубийством.
Сплетня и наука. Литературоведение делится на сплетническое и точное. Сплетническое разыскивает прототипы и хищно уточняет, кто кого и с кем. Точное считает икты, изредка обнаруживает архетипы. Сплетническое старается писать красиво, точное старается выражаться научно. Сплетническое подчеркнуто субъективно и нагло, точное по-научному скромно и старательно объективно. Такое деление повторяет (карикатуря) риккертовское деление на науки «объясняющие» и «понимающие». Сплетня – «понимает» (во всяком случае, задача сплетни – в понимании, верном или неверном). Точность – «объясняет» (во всяком случае, задача точности – в скрупулезном объяснении). Точность и «объяснение» – вне эмоций, вне вкусовщины. Зато сплетня и «понимание» распахнуты настежь как вкусовщине («понравилось» – «не понравилось»), так и эмоции («прошибло, знаете ли, слезу, а вот тут, в этом месте романа, понимаете, остался равнодушным»). Мне следовало давно предупредить: вы вступили в область сплетнического литературоведения.
Поиски прототипа. Симурден и Пугачев. Трудно понять, почему столь литературный, столь из-книжек-сделанный-герой внушает читателю такую симпатию. Едва лишь он появляется перед Юрием Живаго во всей своей революционной красе в штабном вагоне на Урале, едва лишь потрясенный доктор, которого Стрельников чуть было не расстрелял под горячую-то руку, во всяком случае обошелся… мм… неласково, про себя воскликнул: «Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств, не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились? Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли», едва лишь по изложении революционной карьеры Стрельникова Пастернак завершает главу энергичным, ритмическим: «Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила», как читающий сразу определяет: ну да! Старый знакомый! Гражданин Симурден из «Девяносто третьего года» Гюго и еще ближе, еще современнее – несчастный, обреченный гибели фанатик – Эварист Гамлен из «Боги жаждут» Анатоля Франса.
«Доктор Живаго» встраивается в традицию романов о революции. Не советских романов о революции, здесь-то как раз – полемика явная и подчеркнутая («Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается», – любопытно, что Лара Гишар говорит это еще в 1918 году, то есть еще до того, как «плохие книжки» о «разделенности на два несоприкасающихся лагеря» во времена Гражданской войны были написаны) – а, если можно так выразиться, либеральных романов о революции. В этом ряду и «Девяносто третий год», и «Боги жаждут» – самые сюжето– и темообразующие. Был, впрочем, еще один роман о социальном катаклизме, о слегка подзадержавшейся во времени и в пространстве сатурналии, который был столь же важен для Пастернака, как и западные, в слове воплощенные революции. «Капитанская дочка» – уральская повесть, как и «Доктор Живаго» – по большей части – уральский роман. В самом деле, вот в «Капитанской дочке» – никакой разделенности на два лагеря. Здесь взаимопересечения людей «во дни мытарств, во времена немыслимого быта» изображаются едва ли не с удовольствием, во всяком случае, не без юмора: «..Я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: “Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас Бог милует?” Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. “Здравствуй, Максимыч, – сказал я ему. – Давно ли из Белогорской?”»
Понятно, что такого рода юмор не близок Пастернаку (как, впрочем, и любого другого рода – юмор), но сама ситуация благодетеля из вражеского стана – не просто близка. Она – сюжетообразующа. Поначалу может показаться, что «Пугачев» «Доктора Живаго» – таинственный Евграф Живаго, выручающий двоюродного брата из всех мыслимых и немыслимых передряг благодаря таким же мыслимым и немыслимым связям в верхах новой революционной власти, но по размышленье зрелом придется отказаться от этого уподобления. Евграф – слишком таинственен, слишком могущественен, слишком далек от главного героя, слишком он deus ex machina, чтобы быть «Пугачевым». На Екатерину II – тянет, на Пугачева – нет. Пугачев – это тот, с кем складываются человеческие отношения, несмотря ни на что, несмотря на то что и расстрелять тебя может, а все равно сидишь и разговариваешь с ним по душам, и жалеешь его, и даже помочь ему хочешь, да где уж там, остается только вздыхать: «Емеля, Емеля!»
Такой герой в романе есть – это Стрельников-Расстрельников-Антипов, муж Лары Гишар, любовницы и любимой Живаго.
Просто сплетня. В воспоминаниях жены видного партийного деятеля Григория Яковлевича Сокольникова (Бриллианта), в годы Гражданской войны – командарма-8, прославившегося подавлением ижевско-воткинского солдатского восстания на Урале; в годы нэпа – наркомфина, смогшего провести весьма удачную денежную реформу; партийного оппозиционера в канун «великого перелома», совершившего отчаянную попытку соединить бухаринский «правый уклон» и троцкисткую «левую оппозицию»; обвиняемого на процессе 1937 года – да, так вот в воспоминаниях его жены, Галины Серебряковой, упоминается фамилия того человека, у которого Галина Иосифовна жила после ареста мужа и до своего ареста. Благодетеля звали Антипов.
Поиски прототипа. Маяковский. Тем не менее книжный, литературный Стрельников-Антипов кажется настолько живым, что именно ему подыскивают прототип. Интуиция не обманывает ни точных, ни сплетнических литературоведов – какая-то аура подлинности, мучительной подлинности окружает Стрельникова. Эта аура настолько убедительна, что Л. Долгополов, например, в своей статье «Владимир Маяковский и Юрий Живаго» (Russian studies. 1996, т. II, № 1) пишет следующее: «Едва намечена в воспоминаниях Пастернака проблема двойничества, которая как раз в романе “Доктор Живаго” получит наглядное выражение и которая также будет непосредственно связана с Маяковским (Живаго – Стрельников, Стрельников – Маяковский как варианты одной общей проблемы)». Если учесть, что в этой же статье процитировано такое утверждение Пастернака: «Этот герой (Юрий Живаго. – Н. Е.) должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским», то получается, что Стрельников едва ли не двойник Пастернака по «маяковской» линии. Это не так – Пастернак настаивает на «инаковости» Стрельникова по отношению к Живаго и вообще к любому поэту. Потому-то Живаго и не замечает Стрельникова (Антипова), что они – разные, из разных миров, пересекшихся только во время революции и Гражданской войны. Маяковского Живаго бы заметил, как заметил Маяковского и Пастернак, поскольку Маяковский был поэт, и прежде всего – поэт, то есть человек из мира Пастернака и Живаго. Настолько из этого мира, что Пастернак спешит сообщить об общности Живаго с ним, с Блоком, с Есениным и с самим собой, со всеми поэтами, так или иначе принявшими большевистскую революцию. А Стрельников – сама революция. Какое ж тут «двойничество»? Все равно что «двойничество» Гринева и Пугачева. Здесь не «двойничество», здесь – диалог со всхлипом!