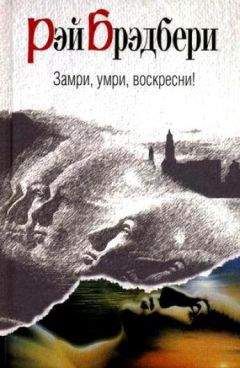Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
Поди тут что пойми. Хоть Юрия Осиповича удалось помянуть.
Вот из этой-то фальшивой странички вся эта книжка и выросла.
Ведь что тут имелось в виду? Что Достоевский, как Робинзон, «открыл» острог как остров. А Солженицын век спустя открыл, что остров не один, что это система, что это архипелаг, – оказался уже Магелланом. Имелось в виду и то, что между зонами с течением времени иссякла свобода, как вода – пересохли проливы, и все стало зоной. Что какую реальность ни возьми, ее можно описать как лагерь. Что лагерь – и есть модель нашего мира.
С этой точки зрения написаны все заметки, включенные в «Нового Гулливера».
И хотя я пишу только «положительные» статьи, они не могли быть напечатаны в иные времена, потому что касаются книг и писателей, которые могли быть напечатаны лишь в наше, позднейшее время. Не могу сказать, что меня совсем не смущает, что я пишу разрешенные, «позволенные» вещи… Мандельштам не разрешал.
Ведь не только напечатаны, но и написаны мною раньше они не могли быть. Хотя я и привычен писать «в стол», но я и писать бы их раньше не стал, потому что заказа не было.
Может, и впрямь пора кончать с этой робинзонадой, покидать слишком обжитой архипелаг. Пора в цивилизацию. Там же – встреча с Гулливером неизбежна. Ибо что он, грубо говоря, такое? Он – лилипут и великан одновременно, большой и маленький в одном лице. Он есть того самого размера, которого – человек. Осознать свой размер, свою реальность – и есть вход в цивилизацию. Так что хоть название «Новый Гулливер» принадлежит не прошлому, а будущему.
Чтобы воссоединить мысль и пример, оказывается, мало одного разрешения это сделать. Надо это смочь. Тут требуются и сила, и мужество, и, как ни странно, смелость. Та смелость, которая вне разрешения и запрета.
Здесь, в самом начале, кончается не только мое «внутреннее» предисловие, но и весь «Новый Гулливер».
Дата: В Литву вошли войска – столетие со дня рождения О. Э. Мандельштама…
В пору безгласности я хотел написать совсем о других книгах и людях, «без заказа». Меня занимало, праздно, что бы могли написать наши классики в наших условиях. Как бы выглядел Чехов, доживи он до 37-го, или Блок, доживи он до 41-го… Я хотел бы написать о Леониде Добычине как о советском Джойсе, о Варламе Шаламове как о Чехове, о Солженицыне как о Таците, традициях древней восточной прозы в творчестве Зощенко и о пещерах раннего христианства – у Платонова. О Мандельштаме и Домбровском… Наконец, о Василии Белове как о немце и Василии Аксенове как об именно русском писателе.
Я хотел именно это писать – мне не хватило безвременья. Казалось бы теперь – исполняй, не хочу! Здесь почти все – чужое. Если и о том, то не так. Зато из зоны я не вышел. О чем здесь и речь.
Можно было бы, в самом общем виде, описать всю возможную прозу как последовательность мысли и примера. Раньше, скажем, было все нельзя – ни мысли, ни примера, а уж если что, в порядке исключения, то либо мысль, не подтвержденную примером, либо пример, не освоенный мыслью.
Теперь примеров – хоть … ешь. С мыслью хуже. Ее можно прилагать к чему попало. А оказывается ее – не сколько хочешь, а сколько есть. И потратить ее, оказывается, можно так, что и сколько было не останется.
Казалось, дошли наконец-то, и ура. Ан нет. Сели у порога. Истощение у врат…
Голова не варит. Например, шестая эта главка подсказала и названия частей. И вот я уже путаюсь, где Гулливер, а кто Робинзон. Фрейду бы овладеть такой оговоркой…
Все оставим как есть. Это и будет выход.
P. S. Литературный герой как герой
Рассуждение в жанре интеллектуального примитива
(Речь на симпозиуме “European writes”. Гамбург, 2003)
С. Г. Бочарову
ЖАНР ЭТОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ мною в амбициях живописи, а не интеллекта: то и есть мысль, что приходит в голову, а не исходит из нее. Мы ее не излагаем, а провожаем. Доброжелательным взглядом.
Исходная позиция вот какая: в строительстве европейской цивилизации принял участие литературный герой. Рыцарь, прежде всего.
Тристан (без Изольды его нет) – Гамлет (не забудем, что он толстый неуклюжий студент, двоечник) – Дон Кихот (не забыть бы, что он пародия, и будущее – Санчо Панса – уже неотступно при нем) – д’Артаньян (приоритет изобретения голливудского героя) – Шерлок Холмс (пострыцарь, как постлитература)…
Гаргантюа – Робинзон – Гулливер – для масштаба в пространстве и времени. Ариэль, Фауст, Гомункулус, Франкенштейн, Дракула, Голем – предшествие трансформеров. Вспомним человека!
Ничего человеческого, кроме Винни-Пуха, не найдем.
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.
1908
Впрочем…
Глава вторая. СОН СКИФА
Мне 65, и я страдаю графофобией. Последние два года мне снятся ненаписанные тексты. Довольно жуткие. Их и писать не стоит. Я бы их не стал писать. Именно их я и не писал раньше.
Я пишу теперь, когда попадаюсь в заказ, в срок, в dead line. Эту линию я представляю себе буквально как линию смерти. Мне показали эту линию на хирургическом столе в 1994-м, и с тех пор я жду насильника, чтобы «расслабиться и получить удовольствие». Так и с этим текстом. Мне сразу стало ясно, что и как я могу написать, и этого опять оказалось достаточно, чтобы быть не в силах сесть за стол.
Наконец, вчера я как-то усадил себя и как-то его осилил. Удовольствия особого не получил. И снится мне сон. Просыпаюсь пристыженный и понимаю, что только что получил комментарий ко вчерашнему тексту…
Я в Дании, заселяюсь с женой в некий пансионат. Все это достаточно снотворно убого, но, естественно, чисто. Портье, или кто там, назидательно экскурсоводствует: «И вовсе Дания не маленькая страна! У нас капиталооборот… Это все проклятый принц! И никакие мы не датчане! Семьсот лет мы завоевывали и нас завоевывали! Мы привыкли и смирились, что датчане… А мы – данцы!» Это он явно для моей жены выступает, она в Дании впервые, у нее круглые глаза. На сон давит совковое прошлое – общага, но чистая. Две солдатские койки: одна заправленная, для нас, другая – белье на подушке. На одной, однако, двоим будет узко. Выглядываем в окно: там настоящая Дания! – жена в восхищении. Осваиваюсь, открываю двери: то ванная, то гардероб… Открываю еще одну, и зря: там другая, своя, совсем уж датская жизнь: сидят вкруг стола, пьют чай, смотрят на меня недоуменно: я нарушаю прайвеси. Сорри, лопочу я, – сорри. Ретируюсь. Тут еще новость – к нам подселенец. Входит известный питерский писатель-историк Г. Немножко важный, с тем независимым видом русского путешественника, который за границей уже бывал, необязательно именно в Дании, может изъясниться приблизительно на английском или немецком, деловой такой, собранный, что сразу и выдает комплекс неевропейца. Сразу начинает заправлять койку. Тут-то я и понимаю, что что-то не то. Что какой бы ни был убогий пансионат, советской общагой он быть не может. Не могут заселить пару вместе с соседом, и постоялец не должен сам заправлять койку. «Постой, погоди, – приостанавливаю я Г., подсознательно демонстрируя ему или жене, что в Европе поболее его понимаю, – тут какая-то ошибка, надо призвать хотя бы горничную…» Горничная объявляется тут же, отнимает из рук Г. простыню и, многократно извиняясь, уводит его в соседний номер. «Вот видишь, – самодовольно говорю я жене, и тут из шкафа выходят два нарядных щелкунчика в старинных камзолах. – А ты говоришь… Ты еще плакать будешь от умиления!»
Я просыпаюсь и понимаю, что во вчерашнем тексте каким-то образом нахамил Европе. Только, согласно своему русскому менталитету, не понимаю чем. Чем я мог их задеть, таких цивилизованных? такой униженный и оскорбленный? 13 декабря, черная пятница… Тоже мне, Федор Михайлыч нашелся! Я же из Петербурга, самого европейского города России, самого немытого «окна в Европу». Так и не понял: это чтобы заглядывать в него с Запада или выглядывать с Востока? Решил прочитать, что это я вчера написал, чтобы такой сон…
Глава первая. АНАХАРСИС (Вчерашний текст)
Некорректно считать Новый Завет художественным произведением, но где найти более раннее и более постмодернистское… как четыре раза подряд пересказанная одна и та же история о предательстве человека? Все-таки европейская цивилизация христианская прежде всего.
Тогда Христос все-таки первый. Суперстар.
География еще первее. Медитерания. Изрезанность берегов. Полуострова и острова. Горы, моря и реки. Всего этого на единицу географической площади больше, чем где бы то ни было. На Восток Европа утолщается и размывается, переходя в мою Родину, переходящую в Азию.
Однажды у меня не стало сил нажимать кнопку фотоаппарата. Я проехал полмира, еле отсняв одну пленку. Проявив ее, я обнаружил на ней один и тот же кадр – холмы. Невысокие, плавные, зеленые – любимый, как выяснила экология, пейзаж человека – идеал пастуха. Холмы были из трех стран: Италии, Израиля и России. Так что в основе дохристианской цивилизации тихо расположилась пастушеская. Пастухи первыми рассмотрели звезды, первыми увидели Звезду (Вифлеема).