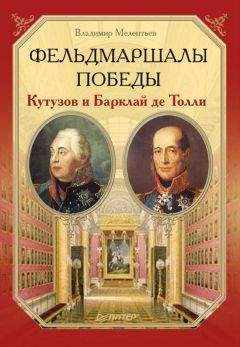Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
С первым все ясно: златоуст и писатель, Казанова раскрывал перед ними феерические субтропики имагинаций, и даже опытная девичья жизнь зачинала мечтать, чтобы ее вовлекли в словеса, сплетенные обольстителем и работорговцем. Второй пункт требует краткого разъяснения. Согласно Мишелю Фуко, традиционного распутника и соблазнителя, коего символом был и по сей день остался Джакомо Джироламо, отличают прочнейшие связи меж сферой поступков и порядком интеллектуального представления, вследствие чего каждому движению тела соответствует неуклонно соблюдаемая фигура рассудка. По-другому сказать, классический соблазнитель есть человек знания, правила и обряда; не потому, что он действует по науке, но оттого, что факт победы над женщиной значим для него гораздо менее ритуала ее обольщения. Классический распутник есть жрец церемонии, лишь этому танцу, геометрии и Закону он служит всей полнотою отпущенных ему потенций соблазна. Соблазнитель, таким образом, заключает в себе Хаммурапи, глиняные таблички своего добровольного (из-под глыб) принуждения к ритуалу. Он раб и смиренный послушник этих обрядов, и он же их господин, который, подчинившись объективному, даже сверхчеловеческому порядку, преображает его согласно своим частным, человечным потребностям. Он адепт не обольщения, но идеологии и поэтики обольщения, избранной им от избытка свободы и силы, а значит, его закабаление абсолютно, и он действительно не хочет, не умеет жить без него. По идее (удачное слово; чем еще, если не платоновской идеей уловления жертвы, охвачен его мозг), он мог бы обойтись и без женщин: разве не ясно, что ему довольно воображения и той чистоты комбинаций, которая возможна только при математическом и литературном отвлеченьях от плоти. «Дневником соблазнителя» (одна из частей «Или — Или») Киркегор показал, что последовательная тактика обольщения растворяется в речи, что она тождественна письменным правилам как таковым, например эпистолярным фигурам. Соблазн есть риторика, обретающая ненасытимость в акте удаления от натурально-телесного — в сторону психосоматики текста. Настоящий, литературный соблазн, а Казанова давно уже сугубо литературен, — это область письменных желаний, желаний, свойственных самому письму, его безличному самопорождению, не требующему, чтобы обольститель умакал перо в чернильницу и корябал ручкой бумагу, оную посыпая песком и пеплом. Но поскольку ему все же приходится работать с реальными женщинами, он, относящийся к ним как художник к своему материалу, стремится, чтобы они — стертые, безымянные, не имеющие внятной индивидуальности — обретали ее в одухотворяющем каноне всеобщности, что открывается в ниспосланном им и ему ритуале. Становясь соучастницами вечного возвращения церемониальных фигур, облекаемых в литературные образы, они получают в награду персональную жизнь, личную душу и даже, не убоимся преувеличений, бессмертие: кто бы их помнил без этих страниц, вне этой риторики расточительства, бескорыстно одаривающей соблазном?
Более всего эти церемонии напоминают балет, и немудрено, что когда близкий к завершению век решил в лице хореавтора Ангелина Прельйокая вспомнить о Казанове, он придал мемуару танцующую форму обряда и первоначальное значение оргии как особого тайного культа и празднества в честь разнузданного, но строго блюдущего ритуальный канон божества. Лик бога благоразумно оставлен невидимым.
Публика будет разочарована, возможно, и оскорблена, профилактически третировал зрителей постановщик. Ей подавай венецианскую клюкву, маски на палочках, жеманные позы, черную смерть и каналы пролитых под барочную музыку слез; вряд ли она среагирует на жесткость, приперченную техно. Скорее всего, она возмутится этой версией ее собственных наваждений и страхов: шесть забывших об авторе персонажей, отдаваясь поглотившему их ритуалу, чья расчисленность и сферичность полнится отзвуками какого-то неотвратимого пифагорейства, безостановочно соблазняют друг друга в запертой комнате и до тех пор испытывают пределы своего вожделения и риторической власти, покуда не открывается лаз в Зазеркалье, где их ожидает судьба быть эмиссарами страстей и болезней Джакомо Казановы. Болезней чрезвычайно телесных, до непристойности венерических, в осьмнадцатом столетии они истребляли фамилии, кланы, профессии и сословия; будничные, современные версии этих старых недугов были специально изучены хореографом в скабрезной пробирке Латинского квартала. За шесть недель репетиций труппу Прельйокая покинули несколько ведущих танцовщиков, шокированных дерзостью материала, и одна балерина, заявившая, что ее тело не создано для таких превращений. Культурный истеблишмент Франции мало что понимает в искусстве, говорит этот юго-восточного европейского облика резкий в суждениях человек сорока одного года, с генетическим ужасом решетки и захолустья, которые даже по балканским понятиям считались избыточными. Элита исповедует консерватизм, ей важно уменьшить амплитуду движений, сделать их мягкими, плавными; нервы контролирующих инстанций утомлены и жаждут успокоительных модуляций. Классике подобает быть ясной и строгой, всему остальному надлежит соответствовать апробированным толкованиям либо вовсе не являться на свет.
Сын албанского эмигранта, Прельйокай вырос в типичном парижском клоповнике гастарбайтеров и должен был, ни на мгновение не замедлив традиции, подготовить свое тело для насекомых, но странная восприимчивость, дарованная ему невесть за какие заслуги, откликнулась на фотографию парящего Рудольфа Нуреева, и тогда он решил стать танцовщиком, чтобы тоже стяжать невесомую красоту. Взяв нужное у новаторов и архаистов, он бросил сцену ради закулисного, очень необеспеченного амплуа балетмейстера и наконец дождался мгновения триумфа, в мельчайших деталях предвосхищенного им еще в юности, — идол Нуреев предложил ему поставить балет в своей кастовой цитадели. Потом Прельйокай знал только удачи. «Казанова» — его главная ставка в достижении звездного неба.
12. 03. 98ПОДСОЛНУХИ И МИЛЛИОНЫ
Лучшая из кинокартин о Ван Гоге открывается сценой безупречно банальной, какой бывает мечта простого искусства выразить жар и огонь, притушив их сжигающее сетчатку пылание до демократических градусов восприятия. Винсент недвижно лежит на топчане. Одежда бродяги стала рубищем нищего. Комнатенка — по мерке сработанный гроб. Дело — табак, пенковая трубочка, сжатая грязными пальцами, курится давно обступившим предсмертием. Он так вымотан и разбит, что редкий человек снизойдет до его утомления, но и этот гипотетический сострадалец не разделит восторги от созерцания настоящего цвета, который является в минуты самокалечения. «Желтый чуть буржуазен, поправь», — говорит он, шатаясь от работы и солнца, еще одному отщепенцу их ремесла, и вскоре они готовы зарезать друг друга, не поделив разлитую в воздухе желтизну. Он счастлив, и чтобы это состояние удержать, закрепить, перевести в стабильность блаженства — необходима безделица, малость, две-три скромного достоинства, ранее всегда в срок приходившие ассигнации Тео Ван Гога, а тот, стоя у братнего одра, внезапно артачится: у него якобы тоже нет денег, он болен и разорен. Художник требует выдать, меценату нечего дать. Они кричат и ругаются, но свара бессмысленна — история разрешила ее в пользу нерасторжимого союза обоих. Тео пожертвует всем, что имел, Винсент подношенье спалит и потребует нового, ибо виноградник, картофель, кипарис, бильярд, сифилис, мистраль и абсент опять накатят цветовым исступлением. Одного безумия люди, братья вышивают экзальтацию спора по канве обоюдного упоения неминучестью, и если бы старый восточный поэт или современный французский философ — стилистически близкие персонажи, только первому неточная рифма обещает в зиндане голодный меджлис сколопендр, а над вторым за его прегрешения сдержанно поглумятся в журнале англосаксонских эмпириков, — так вот, кабы стихотворцу с Востока и галльскому адепту Письма восхотелось зарисовать эту сцену, они, вероятно, отметили б, что восклицания обоих артистов — подобно летучим мышам, этим завсегдатаям тревоги и зрячести, — бьются о стены взаимного самораскрытия в фатуме и возвращаются мифом, преданием о сдвигающей горы любви. Но главное вершится поодаль, сто лет спустя, в глубине рассеченного надвое кадра. Там, где синеблузые работяги аукциона сдувают пылинки с Винсентовых, натурально, «Подсолнухов» и распорядитель под стук молоточка судьбы продает семечки и лепестки, за десять, тринадцать, нет — двадцать семь, хоть и это неполная стоимость — миллионов. Китчевая, но впечатляющая антитеза. И совершенно правдивая.
Какое-то время назад японская корпорация купила цветочки Ван Гога за несколько десятков миллионов зеленых, стремительно добычу упрятала в сейф и потом, когда проигравшие распустили слух, будто картина, как выражался зощенковский сказитель, «грубо фальшивая», — долго отмывала свою репутацию. Чем история кончилась, нам невдомек, однако известно, что суммы с шестью нулями гуляют сегодня на арт-рынке столь же естественно, как медные оболы во владеньях Харона. Но если лодочник и заслуженный вохровец орудовал по-античному незатейливо: ставил клиента в танатальную позу, расстегивал на нем спинжачок, телогрейку или защитну, вот те крест, гимнастерку и, для приличия послюнявив банкноты из бумажника жмурика, оттуда изымал две копейки, то аукционы, возвращая искусство из небытия в жизнь коммерции, сочетают в своих ритуалах кричащее непотребство язычников и тайный расчет генштабистов. Кампания, проведенная в минувшем сезоне агентами «Кристи», заслуживает изучения в классах Вест-Пойнта. Коллекция Виктора и Салли Ганц, одно из крупнейших американских частных собраний модернизма и авангарда, годами привлекала алчность кураторов. В основе и центре ее Пабло Пикассо, по краям — Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг и другие капитаны поп-арта. Ганцы сидели на сокровищах, как подколодный змей Фафнир на золоте Рейна, и не было Зигфрида, чтобы похитить у них этот блеск. Людям «Кристи» удалось разработать подход. Сначала они вовлекли в свою магию наследников Салли и Виктора, клятвенно посулив им, что было удивительной смелостью, 120 миллионов независимо от того, какую сумму принесут фирме торги. Потомки устоять не пытались, и когда все бумаги были под строжайшим секретом оформлены в конторах нотариусов, устроители развернули, как свиток, волшебную сказку своей пропаганды. Бесконечным составом покатились развлечения в спецдомах, стены которых увесили Ганцевыми коллекционными экспонатами, вероятных покупателей ублажали так, словно тем удалось через две тысячи лет проскользнуть сквозь игольное ушко в небесное царствие, меж икрой и шампанским раз пять или восемь созывали ученых и критиков на симпозиумы о Пикассо и все время кормили пираний массмедиа, соблазняя их самым зрелищным развратом сезона.