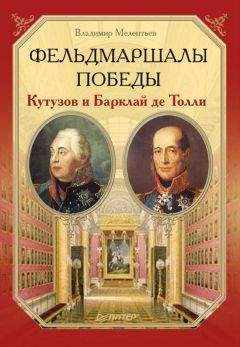Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
Изящная и, по первым листам, необязательная летопись толковника-педераста разрешается мощным движением лирической одержимости. Похоже, у нее есть шанс найти стихийное, под небом и звездами, вместилище своей необузданности, но, увы, не собор, способный внять этой проповеди, и тем паче не массовых потребителей, дерзнувших хронику прочитать. Народы потому и мерещатся взору рассказчика, что Ильянен в силу сознаваемых им особенностей своего дарования обречен на весьма неброскую известность и, конечно, смирился с этой данностью. Бездарно другое — яркую прозу игнорируют профессиональные оценщики слов.
15. 01. 98ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА С ЖЕНЩИНАМИ
Жизнь с первородным клеймом незадачи, точно некто из тьмы захотел посмотреть, как будет дергаться в рамповом свете эта потешная, на обрезанных ниточках марионетка. Истерично серьезное отношение к нравственным обязательствам, что, извернувшись навыворот, должны были вывести его по ту сторону своих же запретов, к щемящим провинностям и — да-да, всей стопой за черту — преступлениям, дабы позднее, омытый слезой покаяния, он мог затаиться в норе и там сызнова выбрать прыжок в недозволенность.
Стэнли Спенсер (1891–1959), английский художник, был вынянчен в колыбели заштатного протестантизма, давно разлученного с живительным уклонением ересей и оттого весьма мало пригодного для контроверзных раскачиваний меж оргией и аскезой. Его опрятная дряхлость длила свое бытие в сумасбродной и лютой, истинно старческой ненависти к обновлению религиозного духа и стиля. На скандинавском Севере память еще несла след тех времен, когда провинциальный священник, потратив лучшие годы на возведение храма, внезапно бросал ключ от него на дно озера, ибо безответная тяжба с Всевышним, которого он пытал, отождествившись с гневным и гнойным, скребущим коросту вопрошаньем Иова, приводила к убеждению заменить богатую церковь бедным царством души, а перенесясь взором в столицу, можно было увидеть одинокого диалектика экзистенциальных соблазнов, учившего наперекор ханжеству клира, что у людей нет критериев распознать божеское в человеческом и что эти инстанции невыразимы одна чрез другую. Шествуя под добровольным конвоем отказа, северная теология не унижалась останавливать свою кровь арникой утешения и лечить раны корпией, нащипанной с мира по нитке. Краснокирпичный же свод верований Кукхэма-на-Темзе страдал неколебимым здоровьем и в оных прописях медицины не нуждался тем паче. Удивительно, что ему все-таки удалось воспитать выродка и урода.
Стэнли Спенсер вырос в семье церковного органиста, который по воскресеньям обрушивал на тела своей паствы бравурно-скорбящие звуки: Стэнли запомнил, как хлопья моральных прелюдий прилипали к мыслям о пудинге, влажной уборке и ценах на уголь. Сидя на жесткой скамье, он слышал запах ношеной обуви, сбежавшего молока и ипотечных задолженностей. Шепот стариков и нетерпеливое, в предвкушении радостей свободного дня, покашливание молодых. С ним ласково собеседовали, осведомлялись о самочувствии домочадцев, гладили по затылку. Прирученный звереныш, он был слуховой щелью их плебейских, не ведавших иного конспиративного примененья секретов — всех до единого, от овсянки до погребальных расходов. За исключеньем того, что изнурял его ежедневно и особенно еженощно, когда руки сами собой лезли под одеяло: незримого механизма совокупления и зачатия. Этим опытом не делился никто, так что тайное тайных вырастало до распаленных габаритов чудовищ из сновидений и оставалось с ним, взрослым ребенком, воочию, наяву, всем ужасом несвершения. Подростковый невроз, улыбчиво жертвуя незатейливый аргумент в пользу уже знаменитой в ту пору теории, отчасти смирялся искусством, очень рано отворившим для Стэнли снисходительное убежище компенсаций. Но чем невозвратней текло превращение мальчика в юношу, тем унизительней (ведь он твердо знал, что есть главное в жизни, во имя чего ее и надлежало отдать) казались предложенные культурой паллиативы.
Арт-школа Слэйд избыточно удовлетворила его полузадохшийся от непристойных видений социальный инстинкт и на сходке выпускников в голос, как померещилось Спенсеру, обсмеяла его половое убожество: он покидал эти стены исстрадавшимся девственником с горящими маслинами глаз, что в упор смотрели на зрителя с академического автопортрета, сей эмблемы гордыни и уединенного самокалечения. Довелись ему спозаранку обжечься на психоанализе, он еще остерегся бы в терапевтических целях кромсать свой недуг заскорузлыми ножницами, он, наверное, содержал бы его в теплой тряпице и вытирал проспиртованной ваткой. Отсюда, из этого именно гиблого места, изливалась фантазия, и эта болезнь непорочности (если можно так обозвать измучившее его воздержание), а отнюдь не излишества секса, диктовала ему живописные образы. Однако он был чересчур далек от рассудка, чтобы безоговорочно принимать его доводы, и, лелея надежду уврачеваться, связывал ее с мировою войной, подвернувшейся как нельзя более кстати. Естественная фронтовая неразбериха и падение гражданских уставов, справедливо рассчитывал Спенсер, помогут ему сойтись с Женщиной, и он столь храбро, столь добросовестно служил в инфантерии и медицинских частях, что за четыре года бойни народов не набрался решимости взять за руку ни одно из отзывчивых, в маскхалатиках милосердия, созданий, которые скромно, но откровенно испытывали интерес к нелюдимому парню.
Версаль узаконил капитуляцию германского варварства, как его с пиететом пред собственной милитаристской традицией называли интеллектуалы Антанты. Прореженной, с перевернутым сердцем вернулась генерация британских поэтов, уцелевшие герои которой вместе с условными мощами погибших и захороненных в братских свекольных полях стихотворцев нынче лежат под плитами Westminster Abbey. Поколение прозы тоже извергло войну и отшатнулось от растления мира; вознеся к небу лицо и согнув в локте руку, оно изготовилось вострубить в горн потери. Бешеная инфляции поруганных немецких кварталов, где пролетарий Нью-Йорка мог за пару сот долларов если не купить на корню, то арендовать особняк разорившихся буржуа, обернулась горячечным джазом американского бизнес-плана. Фотографии солнечного затмения, сделанные на острове Принсипи близ Западной Африки, подтвердили обоснованность Эйнштейновых контуров мироздания. Странная ломка миров живописных, тогда же сказал русский провидец стиха, была предтечею свободы, освобожденьем от цепей и — вестником напророченных другими людьми закабалений, коими вскоре оделись страна и сотворенные ею холсты. Италия впрок запасалась касторкой и корпоративной системой. Лоуренс требовал вернуться к язычеству, дабы стыдливые леди невозбранно под звук козлоногой свирели дарили себя лесникам в их дремучих сторожках. И как, черт возьми, не воскликнуть на последнем взмахе ресниц полуослепшего, в манере Дос Пассоса, киноглаза, что все это время артист Стэнли Спенсер неотступно искал свою Женщину, пока наконец не изведал: нежная и подвижная, она откликается на волшебное имя Хильды Кэрлайн — девушки из приличной среды. Тайна пола открылась ему в установленном месте, не ближе, не дальше; радость узнавания оказалась так велика, что он, свыкшийся с одиночеством, предложил Хильде разделить с ним сладкие узы христианского брака. Они сошлись в середине 20-х и немедленно, на доходы от живописи, построили себе дом. Мечтой Стэнли было под ручку с подругой бродить окрест голышом, но жена выторговала себе компромисс, закрывающий нижнюю часть ее видного тела. Идиллия, не считая кратких лакун усыхания страсти, продолжалась лет десять, ее кульминация пришлась на попытку супруга учредить в родном Кукхэме капище Хильды, ритуально-алтарной основой которого должна была стать ее детородная, выносившая двух дочерей плоть, а художественным обрамлением культа — серия картин на тему вакхических радостей совместного проживания. Хильда не возражала, но чаемое воздвижение ереси было подорвано нашествием Патрисии Прис, чей стратегический гений играючи совладал с добродушной прихотью Спенсера и, будто Цезарь Галлию, поделил его существование на три неравные части. Первую, наиболее комфортабельную, по-хозяйски обжила незваная гостья, во второй с трудом уместилась отвергнутая ими обоими Хильда, в третьей, напоминавшей тюремную камеру или чулан, бил крылами потерявший голову Стэнли.
Слабый художник и лесбиянка. Патрисия обладала ценным опытом обращенья с мужчинами, которых нередко воспринимала в качестве дойных козлов. В постели, по слухам, она мимикрировала с такой изворотливой прытью, что даже закоренелый мерзавец не опознал бы в ней драйва к однополой любви. Впрочем, товарки по Афродите ее тоже интриговали не слишком; в первую очередь она предпочитала улаживать материально-имущественный аспект эротизма. Спенсер являлся на редкость удачным объектом, не требующим ни кропотливой осады, ни риторических монологов, ни партизанских вылазок из чащобы: деньги и дом принадлежали воплощенью доверчивости, коего грех было не облапошить. Патрисия очаровала жертву демонической чувственностью, о наигранности которой Стэнли, разумеется, не догадывался, и касательным сообщением с блумсберийским кругом философов, поэтов и романистов, чьими работами он восхищался. Однополый позыв, культивируемый в жизнестроительных обрядах Блумсбери, был конструкцией вполне рассудочной. Желчно сторонящийся тихоструйности, сантиментов и мистицизма, отличавших, допустим, атмосферу немецких мужских союзов Винкельмановой и более поздней эпохи, он служил необходимым фабульным добавлением к интеллектуальному соблазну, иронии, таинствам элитаризма, бисквитам, головной боли и физической слабости, оставаясь в основном фактом ума, нежели измереньем поступка. Литтон Стрейчи, один из вождей этого ордена, немного преувеличил, когда на вопрос председателя суда (собиравшегося упечь его за решетку по причине пацифизма во время войны), что бы он сделал, кабы германский солдат вознамерился изнасиловать его сестру, бодро ответил: «Постарался бы встать между ними, ваша честь!» Отвлеченная содомская метафорика блумсберийства Патрисию не волновала, и она приберегла эпатажные колкости до замужества. Уж очень ей приглянулись дом и пейзаж.