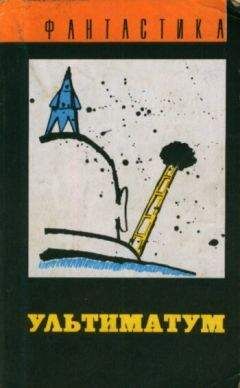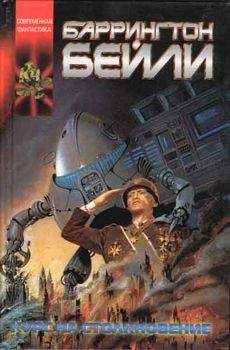Николай Златовратский - Красный куст
Нагорный мир, составлявший плотную, связанную длинным рядом традиций общинную организацию, общину-волость (не смешивайте только с административной современной волостью) из семи-восьми деревень, с общим количеством до тысячи душ одного мужского пола, владел в прежнее, крепостное время сообща полями, лугами, лесами, пожнями и пустошами; кроме общей «барской межи», отделявшей владения их помещика от соседних, угодья нагорного мира не знали никаких границ, никаких столбов и ям. Общины-сестры, связанные общим союзом, вместе поднимали барскую и собственную «тяготу» жизни, тянули за общий страх и риск. В распорядки их внутренней жизни никто не вмешивался; «прямой и точный смысл закона» им был неведом; народная «общинная совесть» могла жить рядом с «совестью барской», и если эта барская совесть «вносила соблазн», то только порывами, налетом; он мог быть, но при случайно благоприятных условиях мог и не быть. Эти благоприятные условия существования для нагорного мира дольше, чем у их соседей, и вот почему дольше. Нагорный мир апеллировал во всех своих распорядках исключительно к одной народной, общинной совести. Ежегодно, в известные сроки, сходился весь нагорный мир в одну из деревень (считавшуюся родоначальницей всех прочих, так как время заселения терялось во мраке веков) и здесь производил дележ и равнение своих общеволостных «угодьев». Сначала он разбивал себя на семь-восемь «вытей» по числу общин, равняя их по душам. По этим вытям уже разбивал «жеребьевкой» все угодья и леса, и луга, и даже поля (хотя последние в более продолжительные периоды переделов, от 3-5 лет). Все уравнивалось в «вытях» по самой строгой справедливости. Затем каждая выть[3], как самостоятельное целое, вела свои собственные равнения, сообща рубила и охраняла леса, косила луга, отправляла повинности. Эта же строгая общинная организация держалась и во всем; принцип равнений общей работы и взаимопомощи был строго проведен чрез всю общеволостную жизнь. На случай пожаров – все выти обязывались выбегать на пожарище, рубить лес, ставить избы погорельцам… и проч., и проч. Мы не будем здесь вдаваться в эти подробности… Об этом когда-нибудь мы еще будем говорить в своем месте. Нас интересуют здесь собственно земельные отношения.
Когда наступало время передела полей, вся тысячедушная масса нагорного люда сходилась на большой холм и здесь у старинной, дряхлой часовеньки с облупившимся образом «старинного письма» выбирались вытчики, мерщики и целовальники, здесь вся толпа осенялась крестным знамением, призывая бога в свидетельство справедливости предстоящего дела, и бросались жеребья между вытями.
Вот другая картина. Настало время сенокоса. Уже не тысячедушная, а масса народа, числом до трех тысяч душ баб и мужиков, парней и девок, разряженная и гульливая, выступала на широкие пойменные луга, расстилавшиеся кругом, как степь. На этой зеленой площади все три тысячи душ жили одной жизнью, одной мыслью, одним чувством и биением сердец. Что за дело, что каждой из этих трех тысяч душ достанется из этого обширного луга всего 1/3000 часть, величиною, может быть, в 1/2 мужицкого лаптя… Может быть, это и плохо, это скудно, но зато он чувствовал себя «хозяином» и царем не одного этого несчастного пол-лаптя, а всей необозримой зеленой степи, по которой рассыпались три тысячи душ, его однообщинников!.. Вот где суть, вот где великое значение того «былого», о котором скорбит и ноет сердце Елизара Нагорного! И – увы – все это прошло, миновало, какой-то вихрь разрушения и разложения пронесся над общиной-волостью, и община-волость стала нахронизмом, раритетом, «сонным мечтанием» в воспоминаниях стариков… Откуда все сие? Этот вихрь «разложения» общины-волости явился, конечно, не без причины. Он подготовлялся в течение длинного предыдущего периода, незаметно, медленно, но неуклонно, и в период крепостного права необходимые элементы назрели окончательно. Когда наступила ликвидация барства, все ощетинилось, все напрягло внимание, все спешило вооружиться, чтобы «не упустить момента»…
В хаосе, поднятом первым порывом ветра, трудно было что-либо разобрать: слышались только стоны, мольбы, окрики, усмирения, а под этот шум все, что половчее, входило во вкус принципа «двух голов сахару и трех фунтов чаю». Но когда туман несколько рассеялся, оказалось, что многое из того, что было, уже сплыло невозвратно. Старинная часовенка на холме среди полей оказалась разрушенною и поверженною вихрем, и никто уже не заботился реставрировать ее; зеленая, раздольная, как степь, пойма была растерзана на клочки, изрезана полосами и ремнями, истыкана межевыми столбами и изрыта ямами. На этих клочках и «ремнях» копошились, как одинокие шмелевые гнезда, кучи людей, не только уже не дышавшие той животворной поэзией «общего», всеми чувствуемого, всем понятного, которая некогда носилась над степью-поймой, но или совсем равнодушные одна к другой, или даже прямо враждебные. Даже самые эти кучки, эти шмелиные гнезда были уже не однообразны: одни оказались «собственниками»[4], другие– «подворными»[5], третьи – «четвертными»[6], четверг тые – «половинниками» и проч., и проч. Каждый лапоть, каждая пядень земли спешила отгородиться от своей соседки, спешила обставить себя столбом, ямой, значком «по положению». И этот «лапоть» уж больше не чувствовал себя частью некоего гармонического целого! И только теперь этот «лапоть» – едва прошел первый порыв увлечения «свободным трудом» на «собственном» клочке земли – почувствовал, как ему стало на этом месте душно, неуютно и неулежно… И Елизар Нагорный, родившийся еще тогда, когда эта степь-пойма дышала одной жизнью, одним «общим» простором, не мог не скорбеть теперь, когда приходил он на «собственный», отрезанный ему и обставленный межевыми столбами «лапоть»… Положим, этот лапоть не только все тот же «лапоть», что был и прежде, но он стал его «собственным», тогда как прежде был «барский», положим, это обязан он считать большим преимуществом. Но тем не менее вдруг ему стало душно на этом «собственном» лапте, нестерпимо душно и нестерпимо тесно, безотрадно стало «копаться» в пределах собственной загородки… То ли дело, когда он на этом (хотя и называвшемся «барским») лапте мог переноситься, как на ковре-самолете, с одного конца раскидистой поймы на другой и чувствовать, что он может на каждой точке ее дышать полной и свободной грудью, общим дыханием с каждым своим собратом… Эта жажда простора и воздуха – поэзия. Говорят, что поэзия только свойственна тому, что исключительно привык человек считать своим, собственным, интимным: поэзия «своего» угла, хотя бы нищенского, «своего» личного труда, «своей» собственности, «своей» семьи… Но есть другая поэзия – поэзия «общего»… Вот этой-то поэзией некогда жил и дышал Елизар Нагорный.
Он имел основание скорбеть.
* * *Но возвратимся к нашим приятелям, двум Елизарам.
Как-то около петрова дня я собрался навестить моего знакомого народного учителя, проживавшего в той же волости, к которой принадлежал и Елизар Луговой. Подъезжая к школе, я неожиданно встретил выходившего из нее, в сопровождении учителя, Елизара Лугового.
Елизар в новом суконном синем кафтане, причесанный, прибранный, вымытый, прощался с учителем «в руку»; во всей его фигуре замечалось сознание собственного достоинства, а в разговоре его с учителем светилось ясно если не покровительственное отношение, то желание стоять на равной ноге.
– Так уж будем в надежде, – протягивая учителю руку, говорил он. – Конечно, какое же наше образование… Ну, а все же понимаем. И ежели что насчет чего прочего понять можем…
– Конечно. Что ж!.. Я ничего не имею, – отвечал учитель. – Заявите ваше желание.
– Да-с, желали бы… и очень… Конечно, мы больше в практике сильны… Только вот в теории-то слабы. Кабы ежели нам этой теории…
Но тут разговор прервался: они заметили меня.
– А, и вы в наши места пожаловали! – весело приветствовал меня Елизар. – Очень рады… Посмотрите на нас… У нас здесь веселее, чем в лесу-то у нагорных… Поживете – увидите. Будьте добры, посетите нас… Пожалуйста… Не побрезгуйте нами… Мы очень будем довольны, как значив умственный ежели человек. Мы всегда с радушием. Пожалуйста, хоть вместе с господином учителем. Хоть послезавтра… Праздник у нас, сенокос… Народу соберется видимо-невидимо. Полюбуетесь. Лошадку, может, желаете прислать за вами?
– Зачем же? Здесь близко… И пройтись приятно.
– Само собой-с… Так уж вы лучше с кануна пожалуйте. Ведь у нас по росе косят.
Мы с учителем согласились непременно навестить его. Елизар уехал в своей красивой желтой плетушке, в которую была заложена красивая, здоровая лошадь.
– Вот народец, ну, доложу я вам! – сказал с плохо сдерживаемым раздражением учитель. – Пожить бы вот вам здесь, так иначе стали бы расписывать… А может, и совсем бросили бы писать…
Но «желчные реплики» учителя были мне давно знакомы.