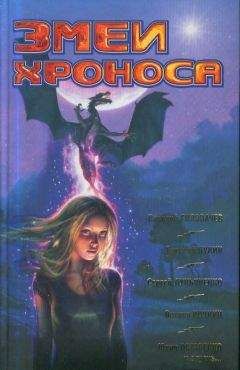Фридрих Ницше - Шопенгауэр как воспитатель
А. Шопенгауэр в молодые годы
Если мы применим эти слова к Шопенгауэру, то мы коснемся третьей и своеобразнейшей опасности, в которой он жил и которая таилась во всем строении и скелете его существа. Каждый человек находит обыкновенно в себе пределы как своему дарованию, так и своей нравственной воле, и это наполняет его тоской и меланхолией; и если чувство своей греховности влечет его к святости, то в качестве интеллектуального существа он несет в себе глубокое стремление к своему собственному гению. В этом – корень всякой истинной культуры, и если под последней я буду разуметь влечение человека возродиться в образе святого и гения, то я знаю, что не нужно быть буддистом, чтобы понять этот миф. Где мы встречаем дарование без этого влечения – в кругу ученых, а также среди так называемых культурных людей, – там оно внушает нам досаду и отвращение; ибо мы чуем, что такие люди, при всем своем духовном богатстве не содействуют, а препятствуют росту новой культуры и созиданию гения, т. е. цели всякой культуры. Это есть состояние окаменения, равноценное той привычной, холодной и самодовольной добродетельности, которая также более всего далека от истинной святости и чуждается ее. В этом отношении в натуре Шопенгауэра лежала странная и крайне опасная двойственность. Лишь немногие мыслители ощущали в такой мере и с такой несравненной определенностью, что в них живет гений; и его гений обещал ему высшее – что не будет более глубокой борозды, чем та, которую проводит его плуг по почве нового человечества. Таким образом он сознавал одну половину своего существа насыщенной и удовлетворенной, лишенной желаний и полной уверенности в своей силе, и с величием и достоинством нес свое призвание победоносно-законченного гения. В другой половине его существа жило неукротимое томление; мы узнаем его, когда слышим, что он с болью отвращал свой взор от изображения великого основателя la Trappe, Рансэ, говоря: «Это – дело благодати». Ибо гений сильнее других стремится к святости, так как со своей вершины он видит дальше и яснее, чем другой человек, – видит глубину примирения между познанием и бытием, царство мира и побежденной воли, очертания другого берега, о котором говорят индусы. Но в этом-то и состоит чудо: сколь непостижимо-цельной и неразрушимой должна была быть натура Шопенгауэра, если и эта тоска не могла разрушить и даже ожесточить ее! Что это означает, – это каждый поймет в меру того, что и сколько есть он сам; целиком же и во всей силе этого не поймет никто из нас.
Чем больше размышляешь об описанных трех опасностях, тем загадочнее представляется бодрость, с которой Шопенгауэр боролся против них, и здоровье и крепость, которые он вынес из этой борьбы. Правда, он вышел из нее с многими шрамами и открытыми ранами и в настроении, которое, быть может, покажется чересчур жестким и подчас и слишком воинственным. Даже над величайшим человеком возвышается его собственный идеал. Но что Шопенгауэр может служить образцом – это несомненно, несмотря на все эти шрамы и пятна. Я готов даже сказать: то, что в его существе было несовершенным и слишком человеческим, именно в самом человеческом смысле сближает нас с ним, ибо мы видим в нем страждущего и нашего товарища по страданиям, а не только недоступно-высокого гения.
Те три органические опасности, которые угрожали Шопенгауэру, угрожают нам всем. Каждый из нас несет в себе как ядро своего существа некую творческую единственность: и когда он осознает эту единственность, вокруг него появляется своеобразный ореол – ореол необычного. Для большинства это есть нечто невыносимое – ибо, повторяю, они ленивы, а с этой единственностью связана цепь усилий и тягот. Нет сомнения, что для необычного человека, который отягощает себя этой цепью, жизнь теряет почти все, чего от нее ждешь в юности: веселье, устойчивость, легкость, почет. Судьба одиночества – вот дар, который ему подносят его ближние; пустыня и пещера всегда готовы – он может жить, как хочет. Пусть он остерегается дать себя поработить, стать подавленным и меланхоличным, и потому пусть он окружит себя образами славных и смелых борцов, одним из которых был сам Шопенгауэр. Но и вторая опасность, угрожавшая Шопенгауэру, не совсем редка. Иногда человек от природы вооружен острым взором, и его мысли охотно вступают на диалектическую тропу; если он отпустит повода своему дарованию, – как легко может он погибнуть духовно, чтобы вести лишь полупризрачное существование в «чистой науке»; или, привыкнув отыскивать в вещах «за» и «против», как легко может он отчаяться в самой истине и жить без бодрости и доверия, отрицая, сомневаясь, критикуя в недовольстве, в полунадежде, в ожидании последнего разочарования – es mochte kein Hund so langen leben! Третья опасность есть ожесточение в нравственном и в интеллектуальном отношении: человек разрывает нить, которая его связывала с его идеалом; он перестает быть плодотворным в той или иной области, перестает созидать себе подобное и в отношении культуры становится вредным или бесполезным. Единственность его существа становится неделимым и необнаружимым атомом, холодной окаменелостью. И, таким образом, человека может погубить его единственность, как и боязнь этой единственности, его собственное я, как и отказ от него, полнота влечений и ожесточение; и жить значит вообще находиться в опасности.
Кроме этих опасностей, которым Шопенгауэр был бы подвержен в силу всей своей организации, – все равно, в какое бы время он ни жил, – есть еще иные опасности, которые исходили из его времени; и это различие между органическими опасностями и опасностями времени существенно для выяснения того, что есть образцового и воспитательного в натуре Шопенгауэра. Представим себе философа со взором, устремленным на бытие; он хочет вновь определить его ценность. Ибо своеобразная работа всех великих мыслителей состояла в том, чтобы быть законодателями для меры, ценности и веса вещей. Какой помехой будет для него то, что человечество, которое он видит перед собой, именно в его время есть дряблый, изъеденный червями плод. Как много должен он добавлять к ничтожной ценности своего времени, чтобы быть справедливым к бытию вообще. Если изучение истории прошлых или чужих народов ценно, то больше всего для философа, который должен произнести справедливый приговор о человеческой судьбе в целом, т. е. не только о средней, но и прежде всего о высшей судьбе, которая может выпасть на долю отдельных людей или целых народов. Но все современное назойливо, оно действует и влияет на взор, даже когда философ того не хочет, и непроизвольно оно будет слишком высоко оценено в общем итоге. Поэтому философ должен надлежащим образом оценить свое время в его отличии от других эпох и, преодолевая современность для себя, преодолеть его также в том понятии о жизни, которое он дает, т. е. сделать незаметным и как бы затушевать. Это – тяжелая и почти неразрешимая задача. Суждение старых греческих философов о ценности жизни говорит бесконечно больше, чем современное суждение, потому что они имели вокруг себя и перед собой самое жизнь в ее пышнейшем расцвете, и потому что у них настроение мыслителя не затемнялось раздором между желанием свободы, красоты, величия жизни и влечением к истине, которое лишь спрашивает: какова ценность жизни вообще? Суждение, которое высказал о жизни Эмпедокл, среди могучей и роскошной жизнерадостности греческой культуры, сохраняет значение для всех времен; оно имеет весьма большой вес, тем более, что ему не противоречит ни одно иное суждение какого-либо другого великого философа того же великого времени. Он говорит лишь отчетливее других, но в сущности – т. е. если уметь как следует раскрыть уши – они все гово-рят то же самое. Современный же мыслитель, повторяю, всегда будет страдать от невыполнимого желания: он будет требовать, чтобы ему сперва показали снова жизнь – настоящую, красную, здоровую жизнь, и лишь затем он сможет произнести о ней свой приговор. По меньшей мере в отношении самого себя он будет считать нужным быть живым человеком прежде, чем иметь основание признать себя справедливым судьей. Вот почему именно новые философы принадлежат к могущественнейшим пособникам жизни и пробудителям воли к жизни, вот почему они стремятся от своей собственной ослабевшей эпохи к культуре, к преображенной Physis. Но это стремление есть вместе с тем и их опасность: в них реформатор жизни борется с философом, т. е. с судьей жизни. И в какую бы сторону ни склонилась победа, эта победа всегда заключает в себе потерю. Как же избег Шопенгауэр и этой опасности?
Если каждый великий человек охотнее всего рассматривается как истое дитя своего времени и во всяком случае сильнее и ощутительнее страдает всеми его недугами, чем все меньшие люди, то борьба такого великого человека против своего времени есть, по-видимому, лишь бессмысленная и разрушительная борьба с самим собой. Но именно лишь по-видимому; ибо он борется с тем, что мешает ему быть великим, – а это означает у него лишь: свободно и цельно быть самим собой. Отсюда следует, что его вражда в сущности направлена против того, что хотя и есть в нем, но не есть собственно он сам – именно против нечистого нагромождения чужеродных и вечно несоединимых начал, против ложного прицепления своевременного к его несвоевременной природе: и в конечном счете мнимое дитя своего времени оказывается лишь пасынком последнего. Так и Шопенгауэр уже с ранней юности выступал против этой мнимой, тщеславной и недо-стойной своей матери – своей эпохи, и, как бы отгоняя ее от себя, очищал и оздоровлял свое существо и обретал себя снова в своем исконном здоровье и чистоте. Поэтому произведениями Шопенгауэра можно пользоваться как зеркалом времени; и уж конечно не вина зеркала, если все своевременное отражается в нем как искажающая болезнь, как худоба и бледность, как впалые глаза и вялые черты, если в нем ясно видны страдания пасынка. Жажда сильной натуры, здоровой и простой человечности, была у него влечением к самому себе, и как только он преодолел в себе время, он изумленным взором увидал своего гения. Тайна его существа открылась ему теперь, намерение мачехи-времени скрыть от него этого гения было разрушено, и было найдено царство преображенной Physis. И когда он теперь безбоязненно обращал свой взор на вопрос: «какова ценность жизни вообще?» – то ему уже не нужно было осуждать беспорядочное и бледное время и его лицемерно-смутную жизнь. Он хорошо знал, что на этой земле есть и может быть найдено нечто более высокое и чистое, чем подобная своевременная жизнь, и что каждый, кто знает и судит бытие только по этой безобразной его форме, относится к нему совершенно несправедливо. Нет, теперь вызывается сам гений, чтобы услышать, не может ли он, этот высший плод жизни, оправдать жизнь вообще; великолепный творческий человек должен ответить на вопрос: «Утверждаешь ли ты в глубине души это бытие? Удовлетворяет ли оно тебя? Хочешь ли быть его защитником, его искупителем? Одно лишь правдивое «да!» из твоих уст – и столь тяжко обвиняемая жизнь будет оправдана!» Что ответит он на это? Его ответ – есть ответ Эмпедокла.