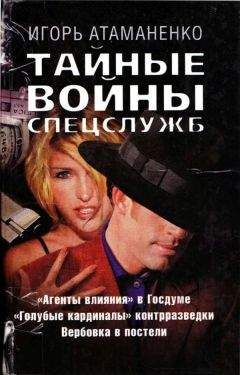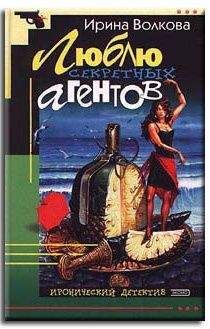В. Зебальд - Естественная история разрушения
Исход уцелевших из Гамбурга начался еще в ночь налета. Как пишет Носсак, «по всем окрестным дорогам ехали люди… сами не зная куда»[47]. Миллион двести пятьдесят тысяч беженцев забросило на самые дальние окраины рейха. В уже цитированной записи от 20 августа 1943 года Фридрих Рекк сообщает о группе из сорока-пятидесяти таких беженцев, которые пытаются штурмом взять поезд на одной из верхнебаварских станций. При этом на перрон падает фибровый чемодан и «разбивается, вываливая все свое содержимое. Игрушки, маникюрный несессер, обгоревшее белье. И под конец, спаленный до мумии детский трупик, который полуобезумевшая женщина тащила с собой как остаток еще несколько дней назад живого прошлого»[48]. Едва ли возможно, чтобы Рекк выдумал эту жуткую сцену. Так или иначе, глубоко потрясенные, то обуреваемые истерическим желанием выжить, то впадающие в тяжелейшую апатию беженцы наверняка разнесли весть об ужасах гибели Гамбурга по всей Германии. Во всяком случае, дневник Рекка подтверждает, что, несмотря на запрет передачи информации, все-таки можно было узнать, какая кошмарная гибель постигла немецкие города. Годом позже Рекк рассказывает о десятках тысяч людей, которые после заключительного массированного налета на Мюнхен разбили палаточный лагерь в скверах на площади Максимилиансплац. Дальше он пишет: «Неподалеку, по магистральному шоссе, бесконечным потоком [идут] беженцы, немощные старушонки, которые на длинной палке несут за плечами узелок со скудными пожитками. Бесприютные бедолаги в обгоревшей одежде, в их глазах по-прежнему стоит ужас огненного смерча и взрывов, раздирающих на куски все и вся, ужас гибели в засыпанном подвале – под завалом или от мерзкого удушья»[49]. Примечательность подобных заметок – их редкость. На самом деле кажется, будто в те годы никто из немецких писателей, за исключением Носсака, был не готов или не способен написать что-либо конкретное о ходе и последствиях столь долговременной и масштабной разрушительной кампании. Ничего не изменилось и по окончании войны. Псевдоестественный рефлекс, обусловленный чувствами позора и строптивости по отношению к победителям, велел молчать и отвернуться. Отиг Дагерман, осенью 1946-го работавший в Германии как репортер шведской газеты «Экспрессен», пишет из Гамбурга, что целых пятнадцать минут поезд с нормальной скоростью шел по лунному ландшафту между Хассельброоком и Ландвером и в этой чудовищной пустыне, пожалуй, самом страшном во всей Европе поле развалин, он не видел ни одного человека. Поезд, пишет Дагерман, как все поезда в Германии, был набит битком, но никто не смотрел в окно. А поскольку он сам смотрел наружу, в нем признали чужака[50]. Дженет Флэннер, корреспондентка «Нью-Йоркера», сделала сходные наблюдения в Кёльне, который, как гласит один из ее репортажей, «в руинах и одиночестве полного физического уничтожения… утратив всякую форму… [лежит] на речном берегу. То, что уцелело от его жизни, с трудом торит себе путь по засыпанным боковым улицам: скудное население, одетое в черное, – безмолвное, как и сам город»[51]. Это безмолвие, эта закрытость и отстраненность – в них-то и заключена причина того, что мы так мало знаем, о чем думали и что видели немцы в течение половины десятилетия, между 1942-м и 1947-м. Газвалины, среди которых они жили, остались terra incognita войны. Солли Цукерман, наверно, предугадывал этот дефицит. Как и все, кто непосредственно участвовал в дебатах о максимально эффективной наступательной стратегии и, стало быть, имел определенный профессиональный интерес к последствиям area bombing, он тоже постарался как можно раньше увидеть разрушенный Кёльн. В Лондон он возвращался потрясенный увиденным и договорился с Сирилом Коннолли, тогдашним издателем журнала «Оризон», что напишет статью под названием «О естественной истории разрушения». В автобиографии, вышедшей десятилетия спустя, лорд Цукерман сообщает, что этот замысел потерпел неудачу: «My first view of Coiogne cried out for a more eloquent piece than I could ever have written»[52][53]. В 1980-е годы, когда я однажды заговорил с лордом Цукерманом на эту тему он уже не мог вспомнить, о чем конкретно хотел в свое время написать. Перед глазами у него стоял только черный собор среди каменной пустыни да оторванный палец, найденный в куче развалин.
IIО чего бы должно начать естественную историю разрушения? О обзора технических, организационных и политических предпосылок проведения массированных воздушных налетов, с научного описания дотоле неизвестного феномена огненных бурь, с патографического перечня характерных видов смерти или с этологопсихологических штудий об инстинкте бегства и возвращения домой? Носсак пишет, что не было русла для людского потока, который после налетов на Гамбург «беззвучно и неудержимо захлестнул все и вся» и мелкими ручейками донес тревогу до самых отдаленных деревень. Едва найдя где-нибудь пристанище, продолжает Носсак, беженцы снова снимались с места, продолжали свое странствие или пытались вернуться в Гамбург – «чтобы еще что-то спасти или чтобы поискать родственников», или по туманным причинам, заставляющим убийцу возвращаться на место преступления[54]. Так или иначе, неисчислимые толпы людей изо дня в день находились в пути. Бёлль позднее предположил, что именно в этом опыте коллективной бесприютности коренится маниакальная страсть нынешних немцев к путешествиям, ощущение, что нигде нельзя задержаться, надо все время спешить в другое место[55]. Итак, с точки зрения бихевиоризма эти исходы и возвращения бездомных беженцев явились чем-то вроде подготовки к вступлению в мобильное общество, которое сложилось за десятилетия после катастрофы и в условиях которого хроническое беспокойство, перегоняющее людей с места на место, превратилось в кардинальную добродетель.
Если отвлечься от неадекватного поведения самих людей, то в течение недель после разрушительного налета, несомненно, более всего бросалось в глаза изменение в городах природного равновесия, а именно стремительное распространение всевозможных паразитов, размножающихся на непогребенных трупах. Поразительная скудность соответствующих наблюдений и комментариев объясняется негласным табуированием, более чем понятным, если учесть, что немцам, ставившим себе целью полное очищение и гигиенизацию Европы, приходилось теперь отбиваться от закравшегося страха, что на самом деле крысы – это они сами. В неопубликованном тогда романе Бёлля есть пассаж, где описывается руинная крыса, которая, принюхиваясь, пробирается по кучам щебня к проезжей части улицы, а Вольфганг Борхерт, как известно, написал прекрасный рассказ о мальчике, который стережет от крыс братишку, погибшего под завалами, и взрослый мужчина уверяет его, что ночью крысы не бесчинствуют, ночью они спят. Помимо этого, в тогдашней литературе, насколько я вижу, существует на означенную тему один-единственный фрагмент у Носсака, где речь идет о том, что одетые в полосатые робы арестанты, которых задействовали в зоне уничтожения на уборке «останков бывших людей», лишь с помощью огнеметов могли проложить себе дорогу к трупам в бомбоубежищах, – настолько густо роились в воздухе мухи, а ступени подвальных лестниц и полы были сплошь покрыты скользкими, толстыми личинками. «Крысы и мухи завладели городом. Полчища наглых, жирных крыс заполонили улицы. Но еще омерзительнее были мухи. Здоровенные, с зеленым отливом, раньше никто таких не видел. Они тучами кишели на мостовой, сидели на обломках стен, оплодотворяя одна другую, устало и сыто грелись на осколках оконных стекол. Когда уже не могли летать, они ползли следом за нами сквозь мельчайшие щелки, и проснувшись, мы первым делом слышали их шорох и жужжание. Прекратилась эта вакханалия лишь к концу октября»[56]. Приведенная картина размножения видов, которым обычно всячески стараются не дать расплодиться, – редкий документ жизни в разрушенном городе. Если даже большинство уцелевших сумели избежать прямой конфронтации с самыми мерзкими порождениями фауны развалин, то по меньшей мере мухи преследовали их повсюду, не говоря уже о «запахе… тлена и разложения», который, как пишет Носсак, «висел над городом»[57]. До нас не дошло почти никаких сведений о тех, что за недели и месяцы после разрушения погибли от отвращения к бытию, однако хотя бы Ганса, центральную фигуру и рассказчика в романе «Ангел молчал», повергает в ужас мысль, что придется жить дальше, и ему кажется более чем естественным просто капитулировать, «спуститься по лестнице и уйти в ночь»[58]. Знаменательно, что многим из бёллевских героев еще и десятилетия спустя недостает подлинной воли к жизни. Эта нехватка, их стигмат в новом успешном мире, есть наследие жизни среди развалин, которая воспринималась как позор. О том, сколь близки к смерти были многие в больших разрушенных городах на исходе войны, свидетельствует заметка Э. Кингстона-Макклури, где говорится, что бесцельное на первый взгляд блуждание миллионов бездомных людей среди этого чудовищного опустошения являло собой пугающую и чрезвычайно тревожную картину. Никто не знал, где эти люди находили приют, хотя после наступления темноты огни в руинах показывали, где они устроились[59]. Мы находимся в некрополе чужого, непонятного народа, вырванного из его благополучного бытия и истории, отброшенного вспять, на уровень кочевых собирателей. Итак, представим себе, что мы видим «далеко-далеко, позади садовых участков, над насыпью железной дороги… обугленные развалины города, его разодранный мрачный силуэт»[60], а перед ним – ландшафт из низких, цементно-серых груд щебня, сухую красную кирпичную пыль, которая огромными тучами плывет над вымершей округой, одинокого человека, копающегося в обломках[61], трамвайную остановку, посреди Нигде, людей, которые там стоят и о которых, как пишет Бёлль, неизвестно, откуда они вдруг появлялись, словно вырастали из развалин, «невидимо и неслышно из этой пустоты воскресали призраки, чьи пути и цели оставались недоступными его пониманию. То были существа, нагруженные мешками и свертками, коробками и ящиками»[62]. Проедемте с ними назад, в город, где они живут, по улицам, где горы щебня громоздятся до второго этажа дочиста выгоревших фасадов. Мы увидим людей, которые соорудили на улице маленькие очаги (будто в джунглях, пишет Носсак[63]) и готовят на них еду или кипятят белье. Печные трубы меж обломками стен, чадный дым, мало-помалу расползающийся вокруг, старая женщина в платке, с угольной лопаткой в руках[64]. Примерно так, наверно, оно и выглядело, наше отечество, в 1945-м. Отиг Дагерман описывает жизнь обитателей подвалов в одном из городов Рурской области: отвратительная еда, которую они варят из грязных сморщенных овощей и сомнительного мяса; дым, холод и голод, царящий в подземных пещерах; кашляющих детей, в чьи рваные башмаки заливается вода, все время стоящая на полу. Дагерман описывает школьные классы, где выбитые окна заколочены аспидными досками и так темно, что дети не могут прочесть написанное в учебнике. В Гамбурге, пишет Дагерман, он разговаривал с неким господином Шуманом, сотрудником банка, который уже третий год жил в подземелье. Белые лица этих людей, по словам Дагермана, выглядят точь-в-точь как у рыб, когда они поднимаются на поверхность глотнуть воздуху[65]. Виктор Голланц, который осенью 1946-го за полтора месяца объездил зону английской оккупации, прежде всего Гамбург, Дюссельдорф и Гурскую область, и написал для английской прессы целый ряд репортажей, приводит подробные сведения о недоедании, явных симптомах анемии, голодных отеках, истощении, кожных инфекциях и стремительном увеличении числа туберкулезных больных. Он тоже говорит о глубокой апатии и называет ее ярчайшим тогдашним признаком населения больших городов. «Люди бродят повсюду такие вялые и инертные, – пишет он, – что, когда едешь на машине, все время рискуешь кого-нибудь сбить»[66]. Самый, пожалуй, поразительный репортаж Голланца из побежденной страны – небольшая глосса «Эта обувная нищета», посвященная вконец изношенной обуви немцев, вернее не столько сама глосса, сколько сопровождающие ее в более позднем книжном издании фотографии, которые явно завороженный сим предметом автор сделал осенью 1946-го. Такие снимки, где наглядно виден процесс деградации, бесспорно, относятся к естественной истории разрушения, какой она некогда представлялась Солли Цукерману. Точно так же и пассаж из «Ангел молчал», где рассказчик замечает, что «дату бомбежки можно определить по наличию или отсутствию зелени на развалинах: это чисто ботанический вопрос. Здешняя груда развалин была голой и лысой – камни с рваными краями, недавно взорванная кирпичная стена… нигде ни травинки, в то время как в других местах уже успели вырасти деревца, прелестные молодые деревца в кухнях и спальнях». Под конец войны в Кёльне территория развалин местами уже преобразилась благодаря густой зелени – как «мирные загородные овраги»[67] тянутся улицы сквозь новый ландшафт. Не в пример нынешним медленно распространяющимся катастрофам, в ту пору регенерационная способность природы, похоже, не понесла ущерба от огненных бурь. Да-да, осенью 1943-го, через считанные месяцы после великого пожара, в Гамбурге второй раз зацвели многие деревья и кусты, особенно каштаны и сирень[68]. Сколько бы потребовалось времени – если б действительно приняли план Моргентау, – чтобы повсюду в стране руины покрылись лесами?