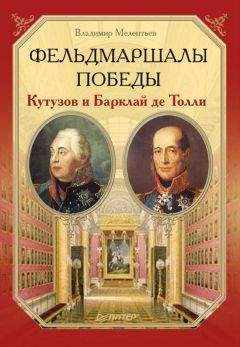Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
Весь «узел душевных реакций на прикосновение незнакомца, — пишет Канетти, — доказывает, что здесь затронуто что-то очень глубокое, вечно бодрствующее и настороженное, что никогда не покидало человека с той поры, как он уяснил границы собственной личности». Но все же есть место, где страх перестает быть существенным, где его количество так велико, что обращает свою непомерность в отсутствие. Это место или, вернее, эти места с клубящейся и сверхплотной консистенцией крайне плохо изучены: пока человек пребывает внутри столь изумительно-цельного образа, ему недосуг размышлять, а когда он выходит оттуда, память глохнет, слабеет или, напротив, подбрасывает такие картинки, что подобными экспонатами впору, сгорев от стыда, захламить непосещаемый мемориальный подвал. Со стороны ж неучастия эти территории созерцаются скверно, тут надобно натяжение-колыхание реально пережитых эмоций. Это место — масса, толпа; в ней избывается ужас непредумышленных прикосновений, в ней предсмертье дотрагиваний становится радостью, ибо масса, толпа есть тотальность касаний (ничего, кроме касаний), и значит, здесь совершается аннигиляция трений в тигле их же чрезмерности. В толпе тело прижато к другому телу и различия между ними падают, исчезают — это единая плоть, превращенная сома, в которой призраки утраченных половых оппозиций соединяются в бодром знаменовании андрогина — так из противопоставления контрастных фонем возникает обнимающая и погашающая их диалог архифонема.
Прижатое тело, если его стиснули не до потери дыхания, не боится соседа, но испытывает от него равенство, благодарное сопричастие и до корней утешительную коллективную безопасность. Подобно тому, как в акте рвоты наружу извергаются не столько запасы непереваренной пищи (обычно в последовательности, обратной поглощению, что забавно напоминает шахматный ретроанализ), сколько субстанция отвращения к своему существованию и естеству, так вместе со страхом касания в толпе уничтожается понятие одиночества, и даже не сентиментальное чувство отверженности, а сама материя одиночества, после чего — ясный, умытый и гладкий, будто простыня из добросовестной прачечной, — человек уже без боязни приуготовлен к тому, чтобы его сызнова пачкали, мяли и комкали, чтобы на нем опять послеобеденным фавном отдыхало начальство.
В роли толпы уместно помыслить и что-нибудь нематериальное, действенно-символическое, например повелевающую большими массами, особенно плотную и объемлющую идеологию, которая тоже способна очистить адепта от ощущения неприютности и страха перед чужими пальцами, чужой грязью. В первой трети XX века в Советской России жил русский советский поэт, испытывавший неизгладимое отвращение к рукопожатиям, малознакомой посуде, несвежим сорочкам, сырой воде, подозрительным женщинам, социальной мусорной дряни и ерунде, короче, решительно ко всему (перечень неблагонадежных предметов разрастался до целого мира), что могло унизить и заразить его своими касаниями. Он избегал сомнительной публики, всегда носил с собой мыло и салфетки, кофе для гигиены пил через соломинку, в чайнике же, случалось, вместо воды кипятил нарзан. И поскольку такая политическая позиция помещала его в центр выжженной земли отторжения, а доподлинная толпа классово первородных людей была ему физически нестерпима, невмоготу, то неудивительно, что он нашел избавление в отвлеченно-всепроникающей художественной идеологии рабочего строя, внутри которого, не натыкаясь на марширующих, певучей валькирией должен был кружить и метаться поэт. Лишь там до него никто не дотягивался, ни былые друзья, ни им любимые и его разлюбившие женщины, никто, за исключением множества лютых врагов, и лишь там он вплоть до самоубийства от одиночества не ощущал себя одиноким и ни на минуту не мог с этим чувством остаться наедине. Ровесником поэта был еврейско-немецкий философ, которому, по свидетельству одного из его современников, невозможно было в знак приятельских отношений положить руку на плечо — с таким болезненным отчужденьем и замкнутостью, с такой неприязнью к прикосновениям держал себя этот искренне стремившийся к дружеству человек. Столь же ревниво он берег чистоту своего мозга, но коль скоро для зарисовки темных свечений обычно приходится опрокинуть пару-тройку фонарных столбов, иногда подпускал в церебральную чопорность сладковатые облачка призраков, как оно было в марсельской курильне гашиша и в чудесном, по следам этой травки, эссе. Профкарьера философа скрипела и разваливалась, как обветшавшая посудина в непогоду. Институции разума и социального поведения, будь то академия, университет, ученый журнал или партия, видели в нем неприятного чужака с покушениями. Он был вышиблен временем, и поделом, ибо сам с фанатичным упорством, словно не понимая, что делает, репродуцировал свою внеположность центростремительным идиомам эпохи. Творчески это окупилось вполне, урожай за ним сняли сам-десят, хоть с издевательской подковыркой: прижавшись, как Юлиан, к язвам событий (впрочем, этот род святого странноприимства не требовал от него до поры нефигуральных касаний и трений), он без подсказки изведал, что такое гниение, и создал новый извод аутсайдерской культуркритики, которую впоследствии (вот она где, настоящая диалектика!) благожелательно продегустировал радикальный истеблишмент, пожелавший узреть в таковом эссеизме предвестье — интересно, чего? уж не собственной ли зарплаты за беспорочное отправление письменных надобностей? Страшась одиночества, он после недолгих колебаний отверг сионистскую перспективу, которой его искушал друг и эпистолярный партнер, и так же как русский поэт, избрал самую универсальную идеологию своего времени. Пророческим инвективам, обращенным к замкнутому племенному телу, он предпочел апостольские воззвания к церквам и просвещенье язычников, необрезанных, воскрешению одной-единственной утраченной речи — чудо собеседования на всех живых языках, крохотному национальному государству — соборную стратосферу под куполом Нового Рима, обещавшего собрать все народы, дабы вручить им ключи и слово. Говоря в терминах Канетти, закрытой толпе он предпочел открытую. Но вскоре обнаружилось, что выбранная им идеология-толпа не справляется с недугами, ради исцеленья которых он отдал себя большим числам и увидел в них Абсолютную Волю, и что вообще с этой толчеей происходят странные вещи. Широчайшая и всемирная, она почему-то была слишком узка, чтобы сохранить в себе длинный ряд созидавших ее церквей и подвижников, чья некогда безупречная репутация теперь ставилась им в укор и служила основанием для отлучения. Разумеется, не нашлось места в этой неверной толпе и философу, и он более не претендовал на него, окончательно породнившись с ролью свободного изгнанника отовсюду. В 1940 году в Пиренеях под угрозой быть плененным гестапо он принял яд и, возможно, почувствовал на себе бесплотные необременительные зовущие семитские прикосновения тех, кого о ту пору уничтожали по той же причине.
Пятьсот страниц книги Элиаса Канетти — рассказ об открытой и закрытой массе-толпе, которая неизменно оказывается узкой для большинства ее насельников. Масса вступает во взаимодействие с механизмами власти, фигурой властителя, инстинктом убийства и зовом смерти, если допустить существованье последнего. Это взаимодействие переходит в противоборство и длится до той минуты, пока из всех агентов войны не останется в живых одна смерть. Тогда масса-толпа собирается снова, потому что индивидуальная гибель для смерти уже не питательна.
Своеобразие смерти в том, что она распоряжается не только всеми видами истребления и натурального ухода, но поддерживает также социальное самообеспечение и обмен. В затерянных мирах это происходит с той нелицемерной наглядностью, что присуща лишь архаически-самодостаточным общежитиям, избавленным от проклятия благодарности белолицым наставникам. На востоке Эквадора обитают индейцы живарос, самое воинственное племя Южной Америки, обладающее избытком слабо заселенной территории. Ни государства, ни какой-либо иной политической организации у них нет; в мирное время они живут отдельными, разбросанными там и сям на большом удалении семьями под управленьем старейшин, но мирное время является невыносимым испытанием для живарос, стремящихся сократить промежутки меж войнами, которые сводятся к тому, что одна группа индейцев выслеживает другую, дабы с ней расквитаться. Живарос не верят в естественную смерть; если домочадец все-таки умирает, значит, его заколдовал враждебный ведун, и святая задача родственников погибшего — определить, кто именно наслал проклятие, и достойно отомстить чародею, ответив на убийство убийством. Как уже было сказано, семью, сплотившуюся для ведения боевых действий в военную стаю, отделяют от недругов изрядные расстояния, до злотворного колдуна с его бормотанием, воплем и пляской — не один день пути, и обязательная для родственников кровная месть «возможна лишь в том случае, если они сумеют отыскать врага. Следовательно, живарос ищут друг друга, чтобы мстить друг другу, и поэтому кровную месть можно считать формой социальной связи»: вне зоны отмщения они никогда бы не встретились. Узнав же, что походы эквадорианских индейцев служат исключительно целям разрушения, я проникся к ним сугубой симпатией, ибо, во-первых, волнует захватывающий максимализм этих пространственных изысканий, а во-вторых, со дна души всплыло воспоминание о ханжеской оторопи, коей сталинская послевоенная энциклопедия наук, искусств и ремесел сопроводила рассказ о набегах сельджуков, отличавшихся «варварскими опустошениями»: там, стало быть, тоже царило прекрасное истребительное неистовство, и вместо того, чтобы снаряжать в багрянородно-порфироносную ставку караваны с шелками, коврами и Приамовым золотом, воздух заволокли презрением — пожаром завоеванных супермаркетов.