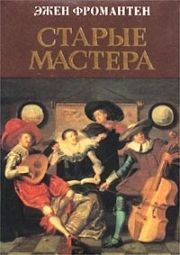Эжен Фромантен - Старые мастера
«Ночной дозор»
Мы знаем, как повешен «Ночной дозор». Он висит против «Банкета стрелков» ван дер Хельста, и, что бы ни говорили, обе картины не мешают одна другой. Они противоположны, как день и ночь, как преображение вещей и их воспроизведение, буквальное, несколько вульгарное и искусное. Допустите, что они так же совершенны, как и знамениты, и тогда перед вашими глазами возникает единственная в своем роде антитеза, — по выражению Лабрюйера, «противоположность двух истин, освещающих одна другую». Я не буду говорить о ван дер Хельсте ни теперь, ни потом. Это прекрасный живописец, из-за него мы могли бы позавидовать Голландии, так как в дни оскудения он мог бы достойно служить Франции как портретист и в особенности как парадный живописец. Но в области искусства, представляющего в точности людей в их общении, Голландия имеет художников куда сильнее. И после того как мы видели в Харлеме Франса Хальса, ничто не помешает нам повернуться спиной к ван дер Хельсту и заняться исключительно Рембрандтом.
Я никого не удивлю, сказав, что «Ночной дозор» лишен всякого обаяния: это беспримерный случай среди действительно прекрасных произведений живописи. «Ночной дозор» удивляет, смущает, заставляет уважать себя, но он совершенно лишен той вкрадчивой прелести, которая нас с первого взгляда покоряет. Почти всегда «Ночной дозор» при первом знакомстве разочаровывает. Прежде всего картина противоречит логике и привычной прямолинейности нашего глаза, любящего ясные формы, легко Читаемый, сформулированный четко замысел. Что-то подсказывает нам, что воображение, как и рассудок, не будут целиком удовлетворены, что даже наиболее податливый ум подчинится не сразу и не сдастся без сопротивления. Это зависит от различных причин, в которых не всегда виновата картина: во-первых, от скверного освещения, затем от темной деревянной рамы, в которой картина как бы тонет и которая не выделяет в ней ни средних валеров, ни бронзовой гаммы, ни мощи и придает ей еще более закоптелый вид, чем это есть на самом деле; и, наконец, и это главное, от тесноты помещения, не позволяющего повесить полотно на должной высоте, так что, вопреки самым элементарным законам перспективы, мы вынуждены смотреть на него, находясь с ним на одном уровне, так сказать, в упор.
Я знаю, что, по общему мнению, это место, наоборот, вполне соответствует характеру произведения, поскольку сила иллюзии, достигнутая такой развеской, приходит на помощь усилиям художника. В этих немногих словах много противоречий. Я знаю только один способ хорошо повесить картину: определить ее дух, понять, исходя из этого, ее требования и повесить в соответствии с ними.
Говоря о произведении искусства, в особенности о картине Рембрандта, подразумевают плод не лжи, но воображения, который никогда не будет ни полной правдой, ни, тем более, ее противоположностью; во всяком случае, искусство отдаляется от достоверности внешних форм жизни, по возможности глубоко продумывая внутреннее сходство. Фигуры движутся здесь в особой, большей частью вымышленной среде, в созданной умом человека отдаленной перспективе. Если, произвольно смешивая точки зрения, переместить фигуры в реальное пространство, то они перестанут быть тем, чем их сделал живописец, и все равно не стали бы тем, во что их ошибочно хотели превратить. Между ними и нами помещается, выражаясь языком оптики и театра, рампа. Здесь эта рампа очень узка. Если вы всмотритесь в «Ночной дозор», то заметите, что из-за несколько рискованного размещения фигур на холсте две первые фигуры картины, стоящие в плоскости рамы, почти не отступают вглубь, как это требуют законы светотени и условия правильно рассчитанного эффекта. Подвергать Рембрандта испытанию, которое мог бы выдержать разве ван дер Хельст, да и то при известных условиях, — значит мало понимать его дух, характер его творчества, его стремления, сомнения несколько неустойчивое равновесие. Добавлю, что полотно художника умеет хранить тайны и говорит только то, что хочет сказать, говорит издали, когда ему неудобно говорить вблизи. Всякая картина, дорожащая своими секретами, плохо висит, если развеской вы вынуждаете у нее признания.
Вы знаете, наверное, что «Ночной дозор» справедливо или несправедливо считается произведением почти непонятным, и именно в этом кроется одна из причин его огромного престижа. Быть может, картина наделала бы меньше шума в мире, если бы в течение двух столетий люди не привыкли отыскивать ее смысл вместо того, чтоб изучать ее достоинства, если бы не продолжали с маниакальным упорством смотреть на нее, как на загадку.
То, что мы знаем о сюжете в буквальном смысле этого слова, мне кажется достаточным. Прежде всего нам известны имена и общественное положение персонажей благодаря заботливости художника, записавшего их на картуше, в глубине картины. Это говорит о том, что если фантазия Рембрандта и преобразила многое, то первоначальный замысел, во всяком случае, соответствовал обычаям местной жизни. Правда, мы не знаем, с каким намерением эти люди вышли с оружием в руках — идут ли они на стрельбище, на парад или еще куда-нибудь. Предполагать тут глубокую тайну нет основания, и я думаю, что, если Рембрандт не постарался быть здесь более ясным, значит он этого не захотел или не сумел. И вот уже целая серия гипотез объясняется очень просто — или бессилием, или намеренным умолчанием. Что же касается времени действия, то этот вопрос, вызвавший больше всего споров, мог быть разрешен уже с самого начала. Не было нужды для этого совершать открытие, что протянутая рука капитана отбрасывает тень на полу платья. Достаточно было вспомнить, что Рембрандт никогда не трактовал свет иначе, что ночной мрак — его привычная среда, что тень — обычная форма его поэтики, постоянное средство драматического выражения, что в своих портретах, домашних сценах, легендах, рассказах, пейзажах, в офортах, как и в живописи, он, как правило, изображал день с помощью ночной тьмы.
Может быть, рассуждая аналогично и прибегая к умозаключениям и здравому смыслу, нам удалось бы рассеять и еще некоторые недоумения, так что, в конечном счете, необъясненными остались бы лишь затруднения ума, смущенного неисполнимой задачей, и неотчетливость сюжета, где неизбежно смешивались недостаточная реальность и малооправданный вымысел.
Но я постараюсь дать то, что давно бы следовало: побольше критики и поменьше мудреных толкований. Оставлю без рассмотрения загадки сюжета, чтобы тем более тщательно изучить самую картину, написанную человеком, который редко ошибался. И поскольку эту картину выдают за высшее выражение гения Рембрандта, за наиболее совершенное выражение его манеры, здесь уместно вплотную исследовать это общепринятое мнение со всеми его доводами. Предупреждаю: я не буду избегать диспутов по вопросам техники, когда понадобится спорить, и заранее прошу простить меня за некоторые профессиональные выражения, которые уже просятся на бумагу. Я постараюсь быть ясным, но вовсе не ручаюсь за краткость и прежде всего за то, что не вызову негодования некоторых фанатиков.
Композиция — ив этом все согласны — не составляет главного достоинства картины. Сюжет ее был выбран не Рембрандтом, и способ, каким он хотел его трактовать, не позволил картине сразу же стать ни особо непосредственной, ни особо ясной. Поэтому и сама сцена несколько неопределенна, и действия почти нет, а следовательно, и внимание зрителя очень дробится. Недостаток, присущий основному замыслу, — некоторая нерешительность в понимании сюжета, в распределении и постановке фигур, — сразу же бросается в глаза. Одни люди идут, другие останавливаются, один насыпает порох на полку, другой заряжает мушкет, третий стреляет, впереди барабанщик бьет в барабан, далее — несколько театральный знаменосец и, наконец, толпа фигур, застывших в неподвижности, свойственной портретам. Вот, пожалуй, и все признаки живописности, которыми выражено движение в картине.
Разве этого достаточно, чтобы придать картине характерность, повествовательность, местный колорит, чего мы ждем от Рембрандта, когда он пишет места, вещи и людей своего времени? Если бы ван дер Хедьст вместо того, чтобы усадить своих стрелков, заставил бы их двигаться и действовать, то не сомневайтесь, что он с величайшей точностью, если не с величайшей тонкостью, проследил бы их поведение и манеры. Что же касается Франса Хальеа, то легко себе представить, с какой ясностью, стройностью и естественностью он расположил бы сцену, каким был бы он остроумным, живым, находчивым, неисчерпаемым и великолепным. Сцена же, задуманная Рембрандтом, — из самых заурядных. Смею сказать, что большинство его современников сочли бы ее бедной возможностями — одни потому, что линейный узор композиции неясен, лишен широты, симметричен, сух и странным образом бессвязен, а другие — колористы — потому, что композиция, полная пустот и плохо заполненных мест, не позволяет широко и щедро пользоваться красками, что обычно для художника, мастерски владеющего палитрой. Один только Рембрандт с его особыми устремлениями знал, как выбраться из скверного положения. Композиция — хороша она или нет — должна была в общем отвечать его намерению: не быть похожим ни в чем ни на Франса Хальса, ни на Греббера, ни на Равестейна, ни на ван дер Хельста, ни на кого другого.