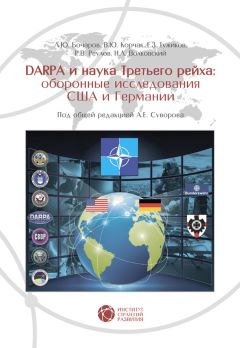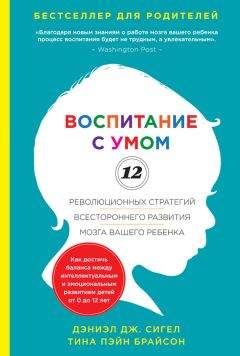Надежда Кожевникова - Сосед по Лаврухе
Стали ждать, разрешения не поступало, вообще никакого ответа. Орманди в Филадельфию улетел, Гилельс в гостиничном номере не спал, не ел. Разрешение поступило 31 декабря, вечером. И сразу началась запись.
Тогда и была сделана фотография, где у Гилельса не лицо, а скорбная маска. У оркестрантов филадельфийского оркестра пропал Новый Год, а у Гилельса — кусок сердца. Кто ответит? По окончании записи Орманди к нему подошел и молча поцеловал руку.
А дома в него плевали — в прямом смысле — кричали: позор! Шел конкурс Чайковского, и первую премию у пианистов получил не Миша Дихтер, как хотелось публике, а Гриша Соколов. Гилельс же председательствовал…
Один неглупый человек по этому поводу сказал: у советских людей нет ни свободы печати, ни свободы слова — у них есть только конкурс Чайковского.
Гилельс за это только получил сполна. Его оскорбляли, машину его обливали помоями. Что Миша Дихтер! Он был поводом. Протестовали против другого, большего, что давно возмущение вызывало. Но выплеснулось на Гилельса. В рабской стране разгул демократии — это страшно.
Хотя на предшествующем конкурсе Чайковского, под председательством того же Гилельса, Первую премию получил Ван Клиберн: Гилельс расслышал глас народа и присоединился к нему. Вопреки мнению властей. Власти отнюдь такое решение не приветствовали, Гилельс вызывался «на ковер», о чем прознала наша всеведущая, всезнающая публика. Тогда его поведение было одобрено, позднее — нет, и выражения не выбирались, хотя считали себя эти люди интеллигентами.
Ох, как мы любим рисковать за чужой счет. Любим упиваться свободой, оплаченной не нашей кровью. Любим возлагать цветы на могилы. И каяться любим, со всеми вместе — со всеми вместе нагрешив.
Там, у них, легендарная Маргарита Лонг расточала комплименты и просто-таки материнскую заботливость. Артур Рубинштейн сам клубнику покупал и приносил — не считал, представьте, зазорным. Папа Павел VI сетовал, что некоторых записей Гилельса нет у него в фонотеке, а уж короли, принцы, знаменитости разные почитали за честь…
Дома же было одиноко. И на концертах в Большом консерваторском зале и в зале Чайковского среди публики сидели и те, кто недавно кричал: позор!..
Хотя, конечно, как артист он должен был это в себе преодолевать, отрешаться.
И сверху давили. Рекомендовали. Он порой уже сдерживаться не мог, взрывался. Пришло то, что должно было прийти: яростное, нестерпимое желание свободы.
Он прошел путь, обратный указанному пророками революции: не от Канта, Ницше к Марксу, к Ленину, а в противоположном направлении. От «активного комсомольца», рожденного в шестнадцатом году, с готовностью впитывающего новые веяния, доверчиво ждущего светлого завтра — к пониманию Библии, отношению к ней как к Главной Книге. Библия была с ним до последнего часа, ее передали из Кремлевской больницы вдове, вместе с наручными часами.
Этот пройденный Гилельсом путь отразился в исполняемой им музыке. Есть, к счастью, пластинки, записи, так что все слышно. Слышно, как на предельной боли он поднимается и идет и уходит, от всего и от всех. Уходит туда, где рано или поздно вcтречаются все истинные таланты и где им должно быть — там, где свобода.
1990 г.
Большой театр не хочет умирать
Просто вы не знаете, что такое театр.
Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего…
М. Булгаков. Театральный романДавно ли вы там были? А так ли уж хотели бы попасть? Ведь известно, что он, Большой театр, разваливается, в труппе — склоки, звезд сманили за рубеж, да и вообще Большого театра у нас скоро не будет, его иностранцы раскупают по частям — слыхали? И газеты об этом твердят и телевидение. Сведения о Большом поступают самые мрачные, в духе, так сказать, времени: плохо всюду, со всеми, везде, и Большой не является исключением.
А вот, говорят, раньше… Классика на сцене шла, и без каких-либо выкрутасов. Великие артисты ни в какую заграницу не рвались, счастливы были своим служением отечественной культуре, входили в Большой, как в храм — такое было у них к нему отношение, такая атмосфера. Ну уж и их чтили, заботились о них, отмечали заслуги, щедро гонорары выплачивали. А какой в Большом был буфет! Пирожные свежайшие, бутерброды с икрой — навалом. И без давки. Публика умела себя вести, уж в майках во всяком случае никто не являлся.
Да бросьте! Атмосфера в Большом никогда не была творческой. Вот уж действительно имперский театр. Парадная вывеска тоталитарного режима.
Артисты — на положении крепостных. Дух самый консервативный. И все напоказ, все — неправда. И не могло иначе быть, когда в ложе Усатый сидел, и всюду охрана, стукачи, а наши славные «народные», на приемах, в правительственных дачах, млели, растекались от подобострастия, не упуская между тем возможности шепнуть в начальственное ушко гадость о сопернике.
В таком случае, был ли у Большего театра расцвет? Когда, какой период считать наиболее отвечающим его сути, самому названию?…
«Да не было расцвета, — говорит Борис Александрович Покровский, — И это подтверждает величие Большого. Он такое явление, что ни в какие рамки не вмещается. Большой есть и будет, чтобы вокруг не происходило. У него поступь слона…» Покровский сам — явление, неподдающееся обычным меркам. Его бунтарство, творческую неуемность ни годы не смиряют, ни заслуги, почет. Для него нормальное состояние — риск. И, кажется, они должны быть друг другу противопоказаны, такой режиссер и такой театр.
Традиции — вот основа Большого, его слава. И, вместе с тем, тюрьма. От рождения Большому вменено служить образцом, эталоном, Он не в праве ошибаться, не смеет сделать ни шага в сторону, но без движения, без развития — смерть. А его долг жить вечно.
Взаимоотношения Покровского с Большим характерны для театра вообще, а для гиганта, «Слона», в особенности. С приходом в Большой Покровского началась новая эра, он поднялся на качественно новую ступень, опера стала действительно спектаклем, обретя ту увлекательность, ту многозначность, что диктовались современностью. Но одновременно вступили и противоборствующие силы, отстаивающие неприкосновенность традиций. Покровского из Большого вытолкнуло, но после снова притянуло. И не просто по причине чьих-то интриг, подсиживания — скорее сам Большой все и вершил, и благородства, и несправедливости.
Так считает Покровский, и, пожалуй, такой подход верен, позволяет ему самому сохранить к Большому столь долгую любовь, без заискиваний и без обид.
Не все сумели. И в том, что мы знаем о Большом, это тоже сказывается, и гордость чья-то, и чья-то горечь.
Большой критиковали всегда. Без нынешней, правда, разнузданности, но недовольство постоянно возникало. Репертуар не удовлетворял: то шел крен в сторону зарубежной классики, а отечественная на задворки оттеснялась, то выпадали образцы мировой культуры, без которых рушился репертуарный баланс, то современность не допускалась и начинало веять затхлостью, то в погоне за новинками проникала второсортность, — словом, не справлялся Большой с теми требованиями, что к нему предъявляли. Сменялись, снимали его руководителей.
Убирали, изгоняли главных дирижеров. Голованов, Пазовский, Самосуд — их всех поочередно увольняли, все они в чем-то, считалось, не дотягивали, хотя, как признавалось позднее, музыканты были превосходные, каждый оставил в Большом глубокий след, и о каждом — потом — вспоминалось восторженно.
Но пока они были, действовали, их сжирали. Причем действительно не со стороны, не по чьей-то указке, а в недрах самого театра. Ничто, никто не обладал такой безжалостной прожорливостью, как сам Большой. И все, кто служил ему верой и правдой, в результате оказывались обиженными. Почти без исключения. И, почти без исключения, все ему поклонялись. Спустя годы, если оставались в живых, говорили, что лучшей порой Большого было время их к нему причастности, когда они пели, танцевали на его сцене.
Лучшей порой оказывались и те разы, когда удавалось в Большой попасть, достать билетик. В молодости, а еще лучше — в детстве. Он, Большой, завораживал, подавлял… возносил, распластывал, и внушаемый им священный трепет не давал замечать никаких огрехов, что и являлось счастьем, во всей полноте, какое испытываешь только при полном доверии.
Это было. Большой театр был. Он не миф, не легенда, и никакая не попытка приукрасить наше прошлое, от которого мы уже готовы отвернуться, отказаться. Он был, несмотря на все несправедливости, жестокость и коварство власти, отсутствие свободы и покоя, неуверенность в завтрашнем дне, гнусность быта, предательства, душевные извращения, лживость, двойственность
— был, вопреки всему низменному и благодаря тем чаяниям и тем качествам, что отыскиваются в людях даже в самые невеселые времена. Был как отдушина, как праздник, нужда в котором никогда не пропадает. Был как свидетельство героизма, самоотверженности нашей интеллигенции. Был как доказательство незряшности усилий предшествующих поколений, как свидетельство состоятельности, полноценности существования наших родителей, о которых мы судим не всегда справедливо, упрощая их жизненный опыт, чем обедняем и их, и себя.