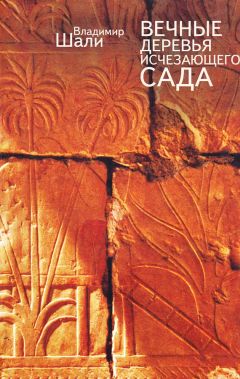Александр Секацкий - Размышления
Ну прежде всего презрение. Ниши, в которых возникли новые очаги духа, были буквально пропитаны пренебрежением и презрением благополучного окружения. Только формация несчастного сознания могла теплиться в этих нишах, отравленных презрением, но и это сознание носило прерывистый, спорадический характер, оно было лишено права на презентацию и самопрезентацию в мире героев и подражающих им. Столетиями эти маргинальные ниши, составлявшие в совокупности социальную помойку, напитывались презрением и страхом, в первую очередь страхом оказаться здесь, в неструктурированности, беспросветной непризнанности; и тем не менее ниши разрастались, становились все более заселенными, пока не накопилась критическая масса и не произошел взрыв.
Презрение переросло в устойчивое самопрезрение с подкладкой беспечности, а оно в свою очередь стало основанием признанности и избранности: последние станут первыми – вот опора новой восходящей жизни. Диалектика процесса отслежена и описана Ницше, была продумана точная формулировка: жизневраждебная специя, необходимая для произрастания самой жизни. Пожалуй, Ницше даже недооценил степень «жизневраждебности», токсичности, этого экзистенциального ресурса для всех традиционных форм жизни, кроме той, которая нашла возможность его фантастически эффективного использования. Если и сегодня взять любую дворовую компанию или тинейджерскую группировку, сверхтоксичные свойства презрения обнаруживаются без труда. Презрение убивает, убивает морально, оно истребляет невольных отщепенцев подобно кислороду, губительному для цианобактерий… Попробуем представить себе ситуацию, что в зоне происходит восстание «опущенных», и восставшим удается не просто захватить власть, но и произвести великую переоценку ценностей, удается объединить вокруг новых ценностей таких же изгоев, неприкасаемых, да еще и заставить завидовать себе обладателей прежней признанности. Случай кажется невероятным, но нечто подобное как раз и произошло на рубеже тысячелетий в Средиземноморском бассейне. Религия презренных рабов нашла, как использовать презрение встречных и окружающих, как обратить его на работу души, как вскрыть недоступные прежде глубины залегания смыслов.
Немаловажным условием явился перенос центра тяжести на взаимоотношения, а не на отношения с господином. И вот, закрепившись в пренебрежении, освоив его смыслосодержащий ресурс, аутсайдеры Ойкумены существенно повысили уровень неуязвимости, но одновременно они столь же резко усилили диктатуру символического, переведя в план значимости неразрешимые прежде дифференциации. Ранее отброшенный, а теперь поставленный во главу угла камень оказался способным выдержать величественное здание христианской цивилизации – до тех пор, пока в ее выгребных ямах не накопились новые отбросы.
Если все же отнестись к киберпанку с должной мерой серьезности – как он того заслуживает, будучи важнейшей выдвинутой в будущее авангардной площадкой, следует как можно тщательнее проанализировать все его хоть сколько-нибудь эксплицированные моменты, независимо от того, относятся ли они к этике, эстетике или идеологии.
В этих разрозненных моментах во много раз больше прогностической значимости и силы, чем в специальных трактатах, являющихся формой отчета для академической футурологии. Возьмем, например, специфическую «брутальность», которая ближайшим образом противоположна политкорректности и вообще гламуру. Она, однако, отнюдь не противоположна верности, нежности и, скажем так, экзистенциальной любознательности; характерным отличием киберпанка является аллергия на фальшь. Всякое лицемерие, в том числе и дешевая конвенциональность гламура в духе кантовского als ob, безжалостно отвергается и разрушается новыми аборигенами техноценозов.
В этом смысле показательно их отношение к природе. Поскольку дикой, природной природы в пределах обозримости уже нет, ее наследие или, лучше сказать, остатки условно разделяются на две части: на гламурную природу и индустриальный пейзаж. Специфическая реакция опознания может служить индикатором авангарда или, наоборот, гламура. Если бюргер или, как принято говорить сегодня, менеджер среднего звена, попав в лес, видит среди елочек брошенные пустые бутылки, окурки, прутья арматуры, ржавую педаль, он испытывает искреннее возмущение по поводу того, что загадили природу, уничтожили ее первозданность – и далее обвинения по списку. Менеджер, разумеется, предпочтет отдыхать в стерильных, специально для него ухоженных уголках природы.
Панк сразу же ощущает и фальшь этих вздохов, и еще большую фальшь полянок с живописными елочками и пеньками. Напротив, заброшенные гаражи, ангары, ржавые педали – это и есть теперь дикая природа, составляющая для него и охотничьи угодья, и среду обитания. Всякие же тепличные елочки-березки вызывают, напротив, негодование, ибо абориген индустриальных джунглей знает, что ржавая педаль сегодня честнее и подлиннее цветочной клумбы.
Наконец о киберзаповедях, призванных стать новыми афоризмами житейской мудрости (по причине полной самофальсификации прежних). Пока они в стадии конденсации, их пытаются сформулировать новые пророки типа Уильяма Гибсона: «Будь оголенным проводом, искрящим при соприкосновении с реальностью… Будь разведчиком своего тела!»[107]
Пока, впрочем, важнее негативный аспект заповедей. В фильме «Я – робот», снятом по рассказу Айзека Азимова, озвучиваются принципы робоэтики, явно выдуманные в каком-то стерильном инкубаторе:
1. Робот не должен причинять вреда человеку ни своим действием, ни бездействием.
2. Робот обязан выполнять приказы человека, если это не противоречит первому пункту.
3. Робот должен заботиться о своем самосохранении, если это не противоречит первым двум пунктам.
Сразу же бросается в глаза важнейший дефект – отсутствие эталона. Все моральные кодексы, претендующие хоть на какую-нибудь действенность, обязательно вводят отсылку «как самого себя». Вспомним: возлюби ближнего своего, как самого себя, поступай так… и т. д. Достоверность отсылки не нуждается в дополнительных разъяснениях, но в «робоэтике» Азимова достоверность такого рода отсутствует, а следовательно, не существует и способов распознавания человеческого в человеке – ни для робота, киборга, репликанта, ни для самого человека грядущей, уже подступающей эпохи. А ведь ясно, что континуум человекообразности будет весьма и весьма обширным, и задача детекции человека является отнюдь не тривиальной в подобных условиях[108].
С другими аспектами робоэтики дело обстоит ничуть не лучше, скажем, принцип «Не причиняй вреда человеку» выглядит чрезвычайно абстрактным и, в сущности, бессмысленным. Этой заповеди не отвечает ни одна человеческая подсистема, ни одна из ипостасей Я: какой, например, смысл может быть в утверждении «память не должна причинять человеку вреда»? А совесть? А стыд? Ничто подлинно человеческое не является безвредным – и это еще мягко говоря.
Вообще политкорректность как форма потворства наличному эмпирическому Я ни под каким видом не может войти в состав киберзаповедей. Ибо путь становлению должен быть всегда открыт: никакого обожествления ставшего, никакого прозябания в остывающей Вселенной… В этом состоит аскетическая направленность киберпанка, его противоположность гедонизму и несомненная близость к средневековой христианской аскетике. Задворки с разбросанными ржавыми педалями ничуть не хуже пустыни с акридами, да и степень решимости, приоритет духа и воли над простой данностью в принципе сопоставимы. С другой стороны, любовь к становлению, готовность к ежедневному экзистенциальному самополаганию сближает киберпанк с пролетариатом. В своей потенции киберпанк представляет собой сегодня самую динамичную силу истории – авангард антропо и социогенеза – и это, возможно, главный смысл маргинального.
Национальная идея как история болезни
Тупик современной политологии во многом связан с однопорядковостью рассмотрения таких реальностей, как государство и государственность, как национальный суверенитет, национальная идея и т. д. Политики используют эти ярлыки по своему усмотрению – как говорится, не запретишь – а исследователи пытаются выстроить какую-нибудь линейную последовательность на основе каузальной связи, выбирая в качестве исходного пункта то одно, то другое, то третье.
Выход состоит в том, чтобы, отказавшись от социальной планиметрии, перейти к социальной топологии: сразу становится очевидным, что некоторые измерения социума пребывают то в развернутом, то в свернутом состоянии, в частности, определенность национального являет себя в некоем пульсирующем ритме, напоминая огонь Гераклита, «мерами потухающий, мерами возгорающийся». Генетически и, если угодно, исторически национальное восходит к иммунологическому измерению, изначально национальная (на этой стадии – этническая) принадлежность работает как оператор-различитель, изо всех сил обеспечивая тождественность социума как в истории, так и в текущей событийности. Возможно, что первой формой будущего многоликого характера национальности является тотем: при этом важно отметить, что перемещение от тотема к тотему не может быть формализовано с помощью логических операторов, принадлежность к тотему не отвечает на вопрос почему. Впоследствии такое положение дел становится отличительной чертой национальной принадлежности, антрополог Борис Поршнев даже фактор многоязычия (полиглоссии) рассматривал как способ защиты непониманием, позволяющий сохранить самотождественность социального тела[109]. Следующее мерцающее возвращение национального связано уже не с тотемно-этнической аватарой, хранящей идентификацию, различимость социальной единицы, а с национальной государственностью, отсчет которой начинается, по мнению многих исследователей, с Вестфальского мира[110]. Лишь с этого момента государственность и национальность совмещаются, так сказать, в одном топологическом классе, соучаствуя в совместных преобразованиях социума. И опять же необходимо добавить: на вполне определенном конкретном историческом участке социогенеза, в который можно войти, как в вираж (например, после религиозных войн), а можно выйти, скажем, по причине религиозного штиля, полного упадка опыта веры. Но даже и на этом участке – возможно, что на нем особенно, – трудно усмотреть raison d’etre именно национальной идеи.