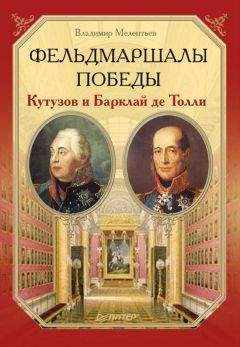Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
С определенной (дилетантской) точки зрения историю можно рассматривать как совокупность событий (новостей минувшего времени), структурированных носителем профессионального знания — историком, который, исходя из своих методологических предпочтений, события иерархизирует, так что целые сегменты былых происшествий, целые области человеческих проявлений оказываются вне зоны разглядывания потомков, ибо признаны недостаточно важными. История и историки по-прежнему занимаются отмеченными творцами великих событий либо детерминистски регистрируют безличные тенденции, в которых находят свое выражение мировая воля и абсолютный дух. Огромные курганы отринутого праха громоздятся на полях фолиантов, не попадая ни в основной текст, ни в подстрочные примечания. Таким образом, даже самая дотошная и проникновенная летопись не обеспечивает всеобъемлющего воскресения усопших, и, следовательно, история не способна стать Музеем, деятельность которого «заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями».
Газета, радио, телевидение — история особого рода. Конечно, она тоже иерархизирована, так называемые главные новости выносятся на первые полосы, звучат в начальные секунды событийных сводок, но в целом эта история плотнее соприкасается с обыденной жизнью частного человека. Наряду с информацией о землетрясении, отставке итальянского премьера, обвале токийской биржи и карательной операции турок против курдских повстанцев здесь всегда можно вычитать да услышать что-нибудь полезное, милое, общежитейское, массу забавных подробностей — о кошечках и собачках, о зимних модах и летних ресторанных меню, о свычаях и обычаях дружественных или враждебных народов. Иными словами, сектор огляда действительности и вследствие этого область События здесь хоть и неизмеримо поверхностней, нежели в профессиональной истории, но зато гораздо шире и много ближе придвинута к повседневному антропоморфному миру. Эта область худо-бедно, с неизбежными умолчаниями и лакунами захватывает те самые миллиарды говорящих и безмолвных существ, что от века тишайше просачивались сквозь сито академической историографии и музейного дела, утрачивая надежду на поминовение, восстановление своего безымянного праха. Более того, в какой-то умопостигаемой плоскости, отвечающей духу учения Федорова, вашингтонский музей информации мог бы стать утопическим прибежищем всей событийно-новостной (по-другому говоря, всеобъемлюще человеческой) космосферы, всего того, что происходит с людьми на земле — вне иерархий и рангов, причем эманации этой сферы усваивались бы музеем уже не только с процеженных, избирательно организованных, очень неполных газетных страниц и телеэкранов, но откуда-то свыше, из разумного ноо-астрального мира, где эти сведения, т. е. следы и свидетельства подлунного нашего пребывания, собраны без изъятия, в непогрешимом объеме. Идеальный, эмпирически не проявленный пафос, инфракрасно мерцающий в бойких буднях Newseum, именно таков. То пафос Музея, пафос воскрешения падших, утраченных, мертвых смыслов и духовных личностей, которым другой русский философ тоже обещал праздник возрождения. Жаль, что хозяева американской увлекательной интеракции покамест не догадались, чем выпало им владеть.
29. 05. 97МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК БЕССМЕРТИЯ
Журнальную русскую версию прошляпил и читаю роман спустя пару лет в только что вышедшей мягкой серийной книжице — заживляю пробел, как открытую ранку: «Бессмертие» Кундеры. Великолепная чистота типажа, почти забытое в непогрешимой своей первозданности воплощение Термидора. Феномены этого рода объективно растут из гниения и подавленности, питаясь упадком мировой революционной воли искусства, червями с расстрелянных броненосцев. Но что это была за эпоха и какой о ту давнюю пору стоял всепоглощающий стиль, эким простором веяло от расправленных крыльев, если нескольких перышек из хвоста традиции, считанных и условных прикосновений к ней через искажающее посредство новейших тактильных учений оказалось достаточно, чтобы собрать почти всю сухопутную жатву и вальяжным линкором войти в лауреатские воды, и вот уже любящий родитель из Гамбурга эпистолярно умоляет дорогую редакцию выдать совет своему сыну-подростку, твердо решившему, когда повзрослеет, стать новым Миланом Кундерой.
Главный упрек завистников свелся к тому, что автор с онемеченным прилежанием бюргера отжал и разлил по емкостям западнославянскую тоску прибитого Варшавским пактом отечества, подмешал к напитку пепла Яна Гуса, сверху слегка подпалил Яном Палахом и, снабдив пуншевый эликсир элегическим скепсисом — голая заплачка, без иронии над собой и согражданами, навряд ли была бы товарной, — вовремя выехал торговать сантиментами туда, где наблюдался хорошо бутылированный спрос. Очень сорокинская, из «Сердец четырех», ситуация, в коей прозе труппа литературных уродов, влекомая жаждой обрядового самоубийства в подземельях сибирского города, для успеха предприятия обзаводится переносным Граалем — преобразованным в жидкость и сбереженным в особой канистре волшебным трупом сверхсимволической матери, что знаменует целокупность национального мифа, предания, психеи и бесхребетного тела (русские как вода, сказал создатель психоанализа, они принимают очертания любого сосуда, а другой поэт вторил дневниковым прозрением русскости как желтой печальной реки в берегах, поросших невысокой примятой травой). Кундера, понятное дело, конъюнктурой воспользовался (в «Невыносимой легкости бытия» прежде всего), но ведь такие негоции скоротечней земных сроков колибри. Эволюция потребительских циклов безжалостна, а после сувенирной распродажи Берлинской стены и повсеместного, от Атлантики до Урала и дальше, возмездия справедливости 1968-я поминальная серия пражских несчастий гляделась бы полоумной риторикой и антикоммерческим нонсенсом. Случай Кундеры глубже, труднее. Это интереснейший случай соответствия духу эпохи, мнимого наследия, тончайше восхищенной власти и волевого преодоления сиротской безнадежности, на которую обречен политически стертый сиделец провинциальной подмышки. Отрезанный местом рождения, недостатком свободы и экзотической речью от международного повествовательного языка, без единого внятного шанса распластаться в жадно чаемом лоне всемирности, а значит, и в славе этой, по-кундеровски, большой зоне бессмертия, автор, непостижимо подпрыгнув наперекор упомянутой гравитации, выказал себя чародеем усвоения всеевропейских схем мастерства — в том скукоженном виде, в каком они сохранились доныне. Он стал их признанным триумфатором. Именно в этом красота его ужасного подвига и безупречность примера, столь идеально совпавшего со временем, что прополз даже слух о, казалось бы, невозможном сегодня новаторстве.
В первые десятилетия века в землях немецкого языка появился так называемый интеллектуальный, или философский, роман — форма, отдаленно и косвенно напророченная синкретической прозою Просвещения и чуть ближе лежащая к рассудочному визионерству романтиков (Кундера связывает себя с этой традицией, выделяя в ней обожаемого им Роберта Музиля). Сначала нестрогим термином «интеллектуальный роман», возникшим в связи со шпенглеровским «Закатом западного мира», именовали небеллетристические виды высказывания, однако затем пригляделись и к синхронным этой рапсодической эссеистике фабульным способам изъявления, посчитав, что они тоже достойны такого почетного титула. В границах этого жанра, экспансии которого подчинялись все новые территории мысли, были открыты, нередко с опережением академических умозрений, методы литературного прояснения фатальной неравновесности сущего и распахнуты сферы, дотоле сюжетному слову почти вовсе неведомые. Фельетонная эпоха, Нерациоидное, Мифологический абрис полдневно-полуночных странствий, смутные объекты желаний Толпы, последний праздник Империи, освященный кровосмесительной радостью Острова, сгорающая клаустрофобная нескончаемость Библиотечного парадиза, священное постоянство Курортного грота, в котором простак-испытуемый, перестав любопытствовать к хронологии внеположного санаторию мира, раскрывается душевным Тангейзером, новая версия диалога цезаря и поэта, спорящих о первоначалах Слова и Государства, огражденная обитель бескорыстного Эстетического Созерцания в ее отношениях с окружающей (псевдо)реальностью Этики и Поступка — эти эмблемы оттуда, из философской словесности первой части столетия, из ее горнего геральдического вернисажа, а верней, пантеона, где упокоились смыслы.
Философский роман был элитарным искусством. Культура модерна отличалась патрицианской надменностью, свято блюла иерархию и еще не догадывалась, что оппозиция высокого низкому — вздор. Невдомек ей осталось и то, что искусству надлежит воспитать в себе двойную мораль, т. е. умение подмахнуть в двух местах сразу, единомоментно отдаваясь партеру с галеркой. Основание для аристократической спеси тогдашней литературы избранных (for the happy few) было невымышленным. Подлинным базисом сознания избранности служило неопровержимое присутствие на Европейском континенте Истории, которая, воплощаясь в исполненных значения трагедийных событиях, и созидала всеобщую иерархичность, ибо трагедия немыслима без полагания иерархического устройства мира и высказываний о мире, она недействительна без отделения зерен от плевел, протагонистов от хора, пусть даже им уготованы общие судьбы.