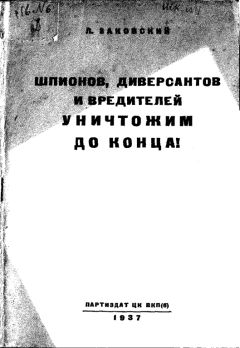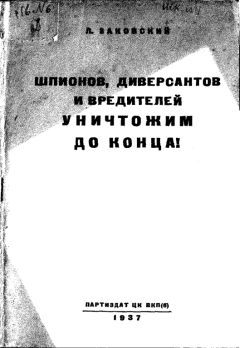Алексей Цвелик - Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков
Слабые ядерные взаимодействия, хоть и слабы, играют немалую роль в общей экономии Вселенной. Например, ими движим жизненно важный для атомных и термоядерных реакций процесс распада нейтрона. Время жизни нейтрона вне ядра равно семнадцати минутам, а распадается он на протон, электрон и электронное антинейтрино. Последняя частица (как и все другие виды нейтрино) не имеет электрического заряда и взаимодействует с окружающим миром только посредством слабых сил и гравитации, то есть очень слабо. Поэтому обнаружить нейтрино было тяжело, и нашли его только потому, что хорошенько поискали. А между тем, не знай мы про нейтрино, не построить бы нам теорию электрослабых взаимодействий и не получить бы за нее Стивену Вайн-бергу и Абдусу Саламу Нобелевскую премию. И еще много чего другого интересного мы бы не знали.
История открытия нейтрино поучительна. Нейтрон — тяжелая частица, незаряженный побратим протона, образующий вместе с последним атомные ядра, был открыт Джеймсом Чедвиком в начале 1930-х годов. Как я уже сказал, вне ядра нейтрон нестабилен и распадается. Те продукты распада, которые обнаружили сразу, являются заряженными частицами — протоном и электроном. Нейтрон нейтрален, электрон заряжен отрицательно, протон — положительно, в сумме их заряд равен нулю, все как положено. Зачем что-то еще? И если бы экспериментаторы не вели количественно точных измерений, никаких подозрений про «что-то еще» у них бы не появилось. «Не вводите сущности без достаточных оснований», — гласит философский принцип, называемый «бритвой Оккама». Основания для введения новой сущности возникли, когда стало понятно, что сумма импульсов протона и электрона не равна импульсу нейтрона. Недостающий импульс кто-то уносил с собой. Этот кто-то не имел электрического заряда и очень слабо взаимодействовал с остальным миром. Энрико Ферми дал ему имя «нейтрино», то есть «нейтрончик».
Лаборатория наша находится в центре острова, с юга омываемого Атлантическим океаном. С северной стороны находится большой спокойный залив, отделяющий Лонг-Айленд от штата Коннектикут. Залив этот всего лишь в трех минутах езды от моего дома, и я часто брожу по его берегам.
Приедается все,
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.
Вокруг много живности, главным образом птиц, но также кроликов, енотов, черепах. Природа и пейзаж напоминают мне места на Волге под Самарой, где я вырос. На самой кромке воды чуть ли не самым частым гостем является очень древний обитатель нашей планеты — подковообразный краб. Это жутковатое на вид, хотя и совершенно безобидное существо, достигающее довольно больших размеров (до сорока сантиметров в диаметре). По справкам, этому виду двести пятьдесят, а может, и триста миллионов лет, то есть он на десятки миллионов лет старше самых древних динозавров. Краб этот пережил две страшные планетарные катастрофы: чудовищную засуху пермского периода, когда, по оценкам, погибло восемьдесят процентов живых существ, населяющих землю, и катастрофу конца мелового периода (семьдесят миллионов лет назад), приведшую, в частности, к исчезновению динозавров.
Древнее существо это производит впечатление чего-то не приспособленного к жизни. Будучи перевернуто на спину, оно не может перевернуться обратно. Поэтому берега залива усеяны погибшими или погибающими крабами, беспомощно перебирающими лапками в воздухе. Так что на первый взгляд подковообразный краб — пример плохого инженерного решения, не то что ускоритель или синхротрон. Указывая на него, так и хочется, вослед Мефистофелю, воскликнуть: «Творенье не годится никуда!» Но вот «плохое» это решение служит уже триста миллионов лет. Оно совсем не плохое, так как это примитивное существо на деле доказало, что приспособлено к жизни лучше, чем миллионы других, которых ему удалось пережить. Поэтому к утверждению о том, что процесс усложнения живого движим лишь соображениями выживания, нужно, по-моему, относиться очень критически.
Как читатель, возможно, заметил, в этой книге я воздерживаюсь от изложения собственных научных теорий. Практически весь обсуждаемый мною естественно-научный материал взят из источников, признаваемых в академической среде бесспорными, в значительной мере даже из учебников. Факты эти давно известны, они лишь не осмыслены по причинам, о которых я предоставляю читателю судить самому. Сейчас я собираюсь нарушить это табу и высказать свое мнение касательно области, в которой я не являюсь специалистом.
Глядя на подковообразного краба или, например, на тараканов, которые тоже представляют собой почти оптимальную с точки зрения выживания конструкцию, думаешь о том, как странно устроена эволюция. Одни существа остаются неизменными на сотни миллионов лет, другие стремительно меняются. Изменения происходят то медленно, то чрезвычайно быстро. Первые микробы возникли практически сразу после того, как Земля остыла, и в течение почти трех миллиардов лет Землю населяли только одноклеточные существа, а потом вдруг, около 580–530 миллионов лет назад, почти разом (за несколько десятков миллионов лет) возникли все типы ныне существующих многоклеточных. Не один за другим (сначала моллюски, а потом позвоночные, как нас когда-то учили), а все одновременно. Почему так быстро? Почему все типы возникли сразу, а потом не прибавилось ни одного?
Дарвинисты утверждают, что изменения живых существ (эволюция) имеют единственным своим источником случайные мутации. Это утверждение несет в их мировоззрении огромную идеологическую нагрузку. Те особи, в которых мутации приводят к изменениям положительным в смысле выживания, производят больше потомства, и, таким образом, эти изменения закрепляются. Звучит разумно, роль мутаций и отбора я никогда не отрицал. Но вот это «единственно» меня всегда изумляло. Говорят, незачем вводить что-то еще, если теория и так все объясняет. А зачем было вводить в теорию частиц нейтрино, когда хватало вроде бы протона и электрона? И не ввели бы, если бы не было численных оценок, так как увидеть нейтрино было чрезвычайно трудно. Как же можно говорить, что теория все объясняет, если нет надежных математических расчетов, обосновывающих возможность случайной эволюции за период, установленный палеонтологией?
Взять, например, наших родственников приматов. Говорят, линия, приведшая в конце концов к нам, отделилась от линии, приведшей к шимпанзе, около семи миллионов лет назад. Наш геном отличается от генома шимпанзе на 1–5 %. Оценки показывают, что за семь миллионов лет в ДНК, ответственных за воспроизведение потомства, должно было произойти около миллиона выгодных для жизни мутаций. Итак, нужно уметь показать, что семь миллионов лет достаточно, чтобы случайные мутации изменили 1 % ДНК общего предка шимпанзе и человека. Говорят еще так: зачем все эти вычисления, какая еще сила может действовать в эволюции, кроме сил, известных физике. А их мы все знаем. Но это же, господа, просто догмат. Без надежных вычислений мы не знаем и не узнаем, нужно ли искать такую силу, как не знали о существовании слабых взаимодействий до того, как был посчитан дефицит импульса при распаде протона. Может быть, эта новая сила, ускоряющая эволюцию и придающая ей определенное направление, связана с присутствием внутреннего мира у существ с нервной системой, являясь как бы внешним выражением этого внутреннего мира. Сила эта, если существует, по-видимому, довольно слаба и для отдельной особи не может быть обнаружена, однако действие ее на протяжении поколений может быть вполне заметным. Чтобы доказать, что известных из физики сил достаточно для объяснения эволюции, нужно предъявить вычисления соответствующих времен. До тех пор пока этого не произошло, у дарвинистов нет теории, а есть лишь гипотезы. А выдает гипотезу за твердое знание не наука, а политика.
Медитация. Мой сосед-миллиардер и Теория Всего
…Ум живет в постоянной деятельности, в постоянной пытливости, с тем наслаждением искания, которое для ума — сладчайшее из яств… Какие царства, какие богатства предпочтешь ты сладости… изысканий?
Цицерон. Тускуланские беседыСказать, что мне часто доводится встречать миллиардеров, было бы большим преувеличением. Однако одного из них мне в последнее время доводится созерцать достаточно часто. Зовут этого человека Джеймс Саймонс, он основатель хэдж-фонда Renaissance Technology, мимо которого я проезжаю каждый раз, когда направляюсь в магазин за продуктами. Встречаю я Саймонса, однако, не в магазине, а на семинарах по физике струн в новеньком — с иголочки — здании из стекла и металла, носящем его имя: Simons Center for Geometry and Physics. Джеймс Саймонс — математик, бывший когда-то профессором в университете Стони Брук, которому он недавно и подарил центр своего имени. Не знаю, останутся ли в истории финансовые махинации его фонда, на которых он и нажил свои миллиарды, но его математические достижения уже вошли в учебники. Математике и физике Саймонс (вместе с другим математиком по фамилии Черн) подарил член, который так и называется «член Черна-Саймонса». «Это который Саймонс? — Это тот, которого член» (правда, по-английски это не так здорово звучит: «Chern-Simons term»). Член этот обладает рядом замечательных свойств, пришедшихся очень по сердцу физикам, которые и эксплуатируют его вовсю последние лет двадцать.