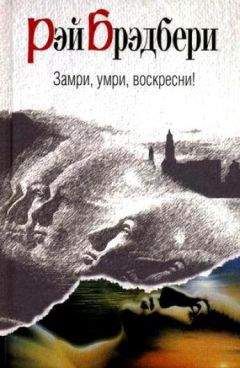Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
К 1861 году он приходит, однако, уже с двумя крупными вещами. Выходит роман «Униженные и оскорбленные» – в каком-то смысле его можно поставить на место «Бедных людей», но во втором рождении. Вот любопытный эпизод для нашего здесь построения: Иван Петрович (одновременно и повествователь, и действующее лицо в романе), профессиональный литератор (прообраз его первой повести – «Бедные люди»), а в семье Ихменевых слушают чтение этой повести ровно с тем же чувством, с каким Макар Девушкин читал «Станционного смотрителя» Пушкина в тех же «Бедных людях»… Неотвязный первый шаг! приговоренность к его удаче…
Но и «Двойник» по соседству… Еще в 1846 году, сразу после критики, Достоевский задумывал его переделать, да так и не собрался, вплоть до ареста по делу петрашевцев в 1849-м. Через десять лет он снова собирается взяться за переделку и опять откладывает: «“Двойник” исключен, я издам его впоследствии, при успехе, отдельно, совершенно переделав и с предисловием».
Записи по переработке «Двойника» разбросаны среди прочих его записей к произведениям начала 60-х годов. Нельзя ничего сказать по поводу того, были ли подобные записи и в рукописях «Мертвого дома», поскольку черновой автограф не сохранился. Но вот что любопытно: в одной из сцен для новой редакции герой «Двойника» Голядкин вступает в «прогрессисты», появляется на собрании у Петрашевского, где его двойник, «младший Голядкин», выступает с речью о «системе Фурье» (конек Петрашевского), а затем играет роль доносчика; затем старший Голядкин признается младшему в том, что намерен стать Наполеоном и предводителем русского восстания; тот производит свой навет, и героя обвиняют в том, что он Гарибальди… Эта вывернутая история собственного участия в деле Петрашевского должна была быть вставлена в неудачного «Двойника» задним числом как своего рода предвидение будущего.
Но вставка эта не была осуществлена. То ли не понадобилась. Произошел тот «успех», в случае которого… И это был «Мертвый дом».
Кольцо «Двойника» оказалось разорвано. В «Мертвом доме» родился тот Достоевский, который еще напишет и «Преступление и наказание» (он собирался писать продолжение, но это была инерция вдохновения: ведь «Мертвый дом» уже был, а ведь это именно его предстояло пройти теперь Раскольникову), далее произойдут «Идиот», и «Бесы», и «Братья Карамазовы», все то, что до сих пор доставляет русской литературе мировое признание.
Из «Мертвого дома» весь НАШ Достоевский не только потому, что из «Мертвого дома» выведена (и еще больше вывезена…) вся коллекция его будущих действующих лиц (так готов – Петров: сколько в нем последующих, более, чем он, прославившихся персонажей!), а потому весь будущий Достоевский – в «Мертвом доме», что, наконец, страданием и опытом воссоединилось в нем то, что было порознь, разрывая и раздваивая: страсть к литературе и долг перед ней.
V
КОГДА ЭТА КНИГА ПРОИЗОШЛА, глубже всех из современников ее художественную силу осознал, по-видимому, именно Лев Толстой, вечный соперник Достоевского в нашем восприятии. Таково парадоксальное устройство нашей психологии, чтобы ставить все в пары, рифмовать: Москва-Петербург, Толстой-Достоевский, Ахматова-Цветаева… Ставить между ними соединительный союз «и»: Пушкин и Лермонтов, Армения и Грузия, Тютчев и Фет… Хотя никакого «и» тут нет и быть не может, сплошное «но».
А уж там, где усмотрим «но», то, как правило, в личных счетах и взаимоотношениях, – а там как раз «и»…
«На днях нездоровилось, и я читал “Мертвый дом”. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительная – искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю» (26 сент. 1880). Эти слова Толстого стали известны Достоевскому, он был обрадован. Но Достоевский – один человек: его покоробило «непочтение к Пушкину».
Толстой возвращался к этой книге неоднократно: и когда писал «Войну и мир», и когда «Воскресение»… В «Воскресении», как известно, есть тюрьма. Видно, ему это давалось нелегко. Кое-что надо знать на личном опыте, как он – войну… Достоевский это знал. Странно, но в пристрастии Толстого именно к этой книге Достоевского есть и такой оттенок: почтения и зависти к его опыту. Представим себе, как он перечитывает, скажем, такое место из «Мертвого дома» (про дворян в остроге):
«Они разделены с простонародьем глубочайшей бездной, и это замечается вполне только тогда, когда благородный вдруг сам, силою внешних обстоятельств, действительно, на деле лишится прежних прав своих и обратится в простонародье. Не то хоть всю жизнь свою знайтесь с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним, по службе, например, в условно-административных формах, или даже так, просто по-дружески, в виде благодетеля и в некотором смысле отца, – никогда самой сущности не узнаете. Все будет только оптический обман, и ничего больше… Я убедился не книжно, не умозрительно, а в действительности и имел очень довольно времени, чтобы проверить мои убеждения».
«Имел очень довольно времени…» Как бы нарочито ни звучало такое сочетание для уха Толстого, право на такую неправильность он не мог не почитать, хотя и поеживался насчет «сорока лет» и «отца». Не мог Толстой и так запросто написать слово «простонародье»…
И если уж непременно «Толстой и Достоевский», то тогда так: Толстой воевал, а Достоевский сидел. Или наоборот: Толстой не сидел, а Достоевский не воевал.
Или выкрикнуть: нет! неправда! не Толстой, не Достоевский, а Чехов – доктор! Это ему открывать наш век. Это ему, по приговору не суда, а совести, маясь животом, паковать пожитки, откладывать в сторонку рассказы и повести и отправляться, до противоестественности добровольно, в дальнюю дорогу – единственное за жизнь путешествие, якобы в Японию… Однако – лишь на Сахалин. Это ему, с его стулом, корячиться полгода на подводах, выплачивая опережающий время долг перед веком будущим, расплачиваясь за свой ранний уход… Успеть! – в этом весь Чехов. В этом УСПЕТЬ – все самое ценное в русской литературе: они – успели. Только «успеть» и можно, иначе у нас поздно, иначе бы – никогда. Пушкин, Даль, Достоевский, Чехов – УСПЕЛИ. Успели то, чего и быть не могло. Чехов – наш доктор, пусть Достоевский и диагност («больная совесть наша»…). Это Чехову – писать книгу, откладывая МХАТ, книгу, которая пока еще никому и не нужна, которая, как в свое время и «Мертвый дом», и до сих пор не воспринята нами как художественная форма, а лишь – как быт, так стремительно на нашем веку ставший опытом и устаревший… Это, однако, именно Чехову как доктору – попытаться привить русскому обществу скромную вакцину СТЫДА вместо так называемых мук СОВЕСТИ, роскошных в своей преждевременности, грозящих ей самой бесплодием и отмиранием функции.
1985
P. S. Четырежды 125
Апология Моськи, или О критериях и масштабах
Речь, не произнесенная на открытии Международной конференции, посвященной 500-летию рода Достоевских.
ХОЧЕТСЯ СРАЗУ ВОЗРАЗИТЬ (хотя никто еще и рта не открыл), хочется выступить не в качестве апологета нашего гения, а в качестве его персонажа, которых он столько наплодил, что мы на всех них и стали похожи. Одного вот только никак не выбрать. Ну да ладно. Кто-нибудь да обязательно выйдет. Помесь Ставрогина с Мармеладовым. Не помню, кто такие. Стоп, стоп! «И старческой любви позорней сварливый старческий задор»… вредный старичок написал. Не надо забывать, что ФМ, из этих пятисот, и до шестидесяти не дожил. А если вычесть каторгу и казино…
Впрочем, хватит вас пугать – начну политикал-корректно. Только что в Париже мой коллега по очередному жюри, египтянин, живущий в Стамбуле, сказал: для нас нет более близкого писателя, чем Достоевский. Как русский, я был польщен, но задумался: что это он так уж близок египтянам? (Как сказал мой племянник, вернувшись из детского садика накануне столетия Ленина: «Мама, ну почему он так любил детей?!»)
Я сообщил о своем некотором недоумении по поводу столь мирового признания ФМ тоже своего рода ребенку (по крайней мере человеку поколения моих детей), моей бывшей ученице Е. К.
«Я недавно попробовала его перечитать… – задумчиво сказала она, – так это же попса!» Именно, что не тоска, а попса. Тогда ФМ – это не Достоевский, а радиостанция, которую слушает таксер.
Бессмысленность этого соображения напомнила мне ревнивое брюзжание Набокова: «Талантливый журналист и юморист» или «лампочка, горящая днем».
Лампочка Эдисона, наверное, с детства забавляла Набокова. Его бывший студент так вспоминает вводную лекцию по русской литературе: задерните шторы, погасите свет, привыкните к тьме… теперь зажгите первый софит… это Пушкин! светло? Теперь второй… это Гоголь! светлее? Теперь третий… это Чехов! совсем светло? Теперь раздерните разом все шторы… В аудиторию ворвался яркий солнечный свет… это Толстой!!!