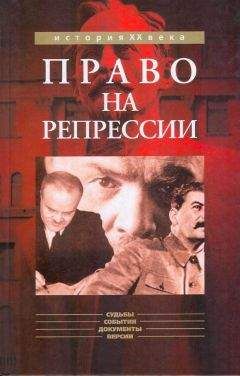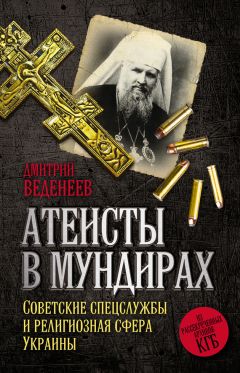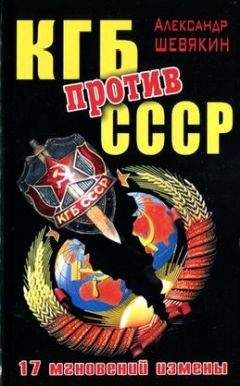Юрий Буйда - Послание госпоже моей левой руке
Иисус Христос «вывел дух из рабства на свободу» (Рай, песнь XXXI). Иуда Искариот сделал свободный выбор, обернувшийся ужасающим крушением личности: рождение свободы ознаменовано грозным указанием на ее пределы. Взирая на Крест, мы не вправе забывать об осине. Однажды Сергей Лёзов дал Христу ошеломляющий глубиной и точностью «псевдоним» — Тот-Кто-Мешает: Иисус и впрямь мешает нам забывать о том, что мы не вправе поступаться своим истинным «я» ради чего бы то ни было, — мешает одним фактом своего существования, выражающимся в Слове (Вести). Это ужасно. Невыносимо. От меня требуется, чтобы я ежемгновенно помнил о смерти и поступал бы так, как если бы через миг мне предстояло умереть. Самое же страшное заключается в том, что требование это исходит не от Чужого, а просто от Другого, в роли которого обычно выступает душа человеческая. Чужого можно обмануть, Другого — никогда. Иуда Искариот не вынес этого. Поэтому он тоже, как мне кажется, может претендовать на имя Тот-Кто-Мешает. Не на славу, нет, — лишь на имя, при упоминании которого картонное пламя истории обжигает всерьез, до волдырей и боли…
Икона и зеркало
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его…
Бытие, 1,27.В 60-е годы Юрий Нагибин, Константин Симонов, Юлиан Семенов и много кто еще клялись именем Хемингуэя, превозносили его метод и не скрывали, что он оказал на них сильное влияние. Недоброжелатели же ставили им это в вину. В 70-е годы недоброжелатели обвиняли Валентина Распутина в том, что его «Прощание с Матерой» — чистое подражание Фолкнеру. В 90-е годы метод «унижения сравнением» получил широчайшее распространение, хотя тогда же стала ясна его произвольность: сравнения говорят больше об эрудиции и круге чтения критика (а чаще — о степени его раздражительности), но мало что дают для понимания творчества Нагибина или Хемингуэя, Распутина или Фолкнера.
Быть может, существует или когда-нибудь будет создан труд, посвященный проблеме творческой оригинальности именно в связи с темой заимствований, влияний и подражаний. Исследователь будет вынужден обратиться к временам, когда истину не открывали, но она — открывалась, а вдохновением было то, что боги вдыхали в поэта, избирая его своим рупором и арфой:
Так ангел Ветхого Завета
искал соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
которого любая жила
струною ангелу служила,
чтоб схваткой гимн на нем сыграть.
Кого тот ангел победил,
тот правым, не гордясь собою,
выходит из такого боя
в сознаньи и в расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.
Латинский поэт IV века по Р. Х. Авсоний из Бурдигалы (Бордо) сочинил проникнутую любовью поэму об учителях и друзьях, стараясь не пропустить ни одного дорогого имени: Тиберий Виктор Минервий, Латин Алким Алетий, Аттий Патера…
Может быть, годы пройдут —
моему подражая примеру,
Кто-нибудь, нас вспомянув,
все наши тени почтит.
Во времена Авсония в моду вошли центоны — стихи, составленные из полустиший Вергилия, в которые автор не мог, не имел права вставить ни одного слова «от себя» (хотя уж современникам-то Авсония было хорошо известно, что слово «автор», auctor — от латинского augere — «увеличивать, умножать» — было не последним среди величальных титулов императоров, полководцев, преумножавших славу империи и увеличивавших ее владения).
Данте, вовсе не склонный к самоуничижению, почтительно склонялся перед Вергилием, который вел его к «предызбранным вершинам» поэзии об руку с Беатриче и Бернаром Клервоским.
Долгое время оригинальность если и не порицалась, то и не числилась среди достоинств: образ жизни человека Средневековья подчинялся формуле, вынесенной Фомой Кемпийским в заголовок главного его сочинения, которое недаром с 1427 года выдержало более двух тысяч изданий, — «Imitatio Christi» (русский перевод «Подражания Христу» принадлежит Константину Победоносцеву).
Подражание Христу ради достижения идеала Христа противопоставлялось бесцельному обезьянничанью актеров и целило в Лжеца, дьявола, «обезьяну Господа», стремившегося своим подражанием Творцу унизить, обессмыслить, уничтожить творение.
За тысячу лет до Фомы блаженный Августин в «Исповеди» писал об этой ситуации: «Все, кто удаляются от Тебя и поднимаются против Тебя, уподобляются тебе в искаженном виде. Но даже таким уподоблением они свидетельствуют о том, что Ты Творец всего мира, и поэтому уйти от Тебя вообще некуда».
Августин раскаивался в недавней своей приверженности манихейству, когда он, как некий раб, «создавал себе куцее подобие свободы, безнаказанно занимаясь тем, что было запрещено, теша себя тенью и подобием всемогущества… Вот раб, убегающий от господина своего и настигший тень. О тлен, о ужас жизни, о глубина смерти!»
В латинском тексте «Исповеди» тень — umbra. Чтобы заклеймить несовершенное подражание, Августин, блестящий выученик риторов, придумывает нелепому обезьянничанью непереводимый синоним, образованный от слова «тень», — adumbrare.
Прилежное, смиренное и осмысленное копирование образцов служило залогом преемственности в культуре, упрочению традиций жизни in tutissimo liberrimoque circulo rationis (в надежном и независимом круге разума), за пределами которого — мрак безумия и иррациональности (попутное замечание: надежный и независимый круг сегодняшних русских интеллектуалов вряд ли шире того, в котором жили интеллектуалы эпохи «до Данте», то есть эпохи, когда интеллектуалы и народ говорили на разных языках).
Оригинальность не входила в число общепризнанных доблестей (virtu) ренессансной культуры: Альберти и Пико делла Мирандола, Виссарион Никейский и Козимо Медичи были озабочены совершенно другими проблемами. Кому именно подражать — Цицерону с Вергилием или всем хорошим писателям — вот вопрос, на который они пытались ответить. Знаменитая полемика о подражании, развернувшаяся в 1513 году после обмена письмами между Пьетро Бембо и Пико (в ней участвовали Кастельветро, Чинцио, Кальканьини, Риччи, Дельминио, Партенио и другие), была вызвана эстетической революцией, связанной, в том числе, и с признанием национальных языков равными латыни. До этой полемики текст воспринимался главным образом как средоточие потаенных значений, нуждающихся в расшифровке. Пьетро Бембо, не покушаясь в принципе на магию культуры как таковой, первым предложил определять творчество, например Данте или Петрарки, в терминах языка и стиля, литературу — в свойственных ей понятиях. Бембо писал Пико: «Я думаю, что у Бога, Творца всего сущего, есть не только божественная форма справедливости, умеренности и других добродетелей, но также и божественная форма прекрасной литературы, совершенная форма, ее было дано лицезреть — насколько это возможно сделать мыслью — Ксенофонту, Демосфену, в особенности Платону, но прежде всего Цицерону. К этой форме приспосабливали они свои мысли и стиль. Считаю, что и мы должны так поступать, стараться достичь возможно ближе этого идеала красоты». Осваивая античное наследие, гуманисты стремились ответить на вопросы, которые вечность ставила перед их временем, перед историческим человеком.
Мольер, называя себя пчелой, заимствовал у предшественников и современников все, что считал нужным заимствовать. Гёте подарил своему Фаусту песенку Шекспира. Лабрюйер уже названием своего главного труда отсылал к «Характерам» Теофраста…
Проблема возникла в начале XIX века и обрела знакомые нам очертания после Байрона, Гюго, Фихте, Шеллинга. Романтик сам стал «автором» вдохновения, то есть — Богом, Единственным. Романтическое открытие личности вскоре стало общим местом, и после этого любая попытка пренебречь индивидуальностью воспринимается лишь как прием. Однако XX век превратил Единственного в Одинокого. Человек утратил значение, которое ему приписывали творцы Кватроченто, называя его copula mundi — связующим мир звеном.
Когда Габриель Гарсиа Маркес приехал в Советский Союз, его между прочим спросили о влиянии на его творчество Фолкнера, имея в виду, вероятно, повесть «Полковнику никто не пишет» (в рассказах того же времени Маркес, по его же словам, сознательно, на спор с друзьями, подражал Хемингуэю). В ответ автор «Ста лет одиночества», как передают, принялся по памяти цитировать огромные куски из «Братьев Карамазовых». Выходит, что Достоевскому подражать престижнее, чем Фолкнеру, которого в свое время уличали в знакомстве и с Олдингтоном, и с Хаксли, и, наконец, с Джойсом, хотя в этом ряду, похоже, недостает Мелвилла и Твена (сам же Фолкнер в зрелые лета ежегодно перечитывал одну-единственную книгу — «Братьев Карамазовых»).