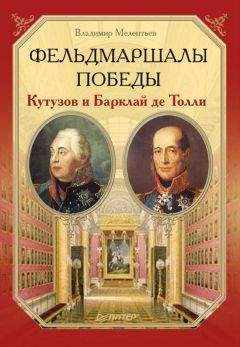Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
Удивляет другое. Если моги такие великие, что ж они, точно мухи к уловляющей ленте, насмерть прилипли к материи быта — косного, жалкого, а свои чудеса ограничили невинными выходками в общепите и великовозрастным, с гормональным ущербом, вуайеризмом: вогнав незнакомую, но пригожую девицу в прострацию, подглядеть, что за исподнее или отсутствие оного приоткроет у нее налетевший с Невы бесстыдно-разоблачительный ветер. Больше того: с их-то волшебной сноровкой — и не сделать денег из воздуха, не отстроить хоромы, не стать чудотворцами своей социальной судьбы! На поверку же моги работают, кормятся и кучкуются по котельным, в этой хтонической преисподней нищей элиты, о чем и говорить уже неприлично — очень банальная тема по состоянию на сезон после конца света и скончания старых времен. Ну да, они попросту не интересуются собственной бедностью и неухоженным отщепенством, их глаза безразличны к пестрому сору, ибо мысли танцуют в прекрасном и главном, и чем смрадней в хлеву человеков, тем светлее дорога к астралу. Как бы не так. И тут прорезается истинный, поминальный замысел автора.
Трактат — панихида по питерскому философско-художественному андеграунду и одновременно насмешливая апология неистребимого подземного слоя. Моги ни черта в этой жизни не могут, не по ним она скроена, и в такой непрактичнейшей немощи катакомбного племени когда-то была его ущербная, декадентская прелесть (скорее в старинном, искусительном значении слова). Следует помнить к тому же, что в иерархии питерского высоколобого подземелья кочегары, истопники, газооператоры занимали почетнейшее место, концентрируя в себе незамутненную чистоту хтонического поверья и жанра, которой близко не достигали дворники и сторожа, представители почтенных, но, по словам митьковского летописца Владимира Шинкарева, несколько дурацких и непроизводительных профессий. Сидельцы котельных составляли элиту касты избранных, как бы внутреннее ядро ордена; постоянное же пребывание наедине с опасностью («Про котел знали одно: срок годности кончился двадцать лет назад, и если он рванет, что пора бы уж, то от всего завода камня на камне не останется», В. Шинкарев), вынужденно аскетический, без смерчеподобного пьянства на работе, образ существования и непрерывная творческая экзальтация придавали этой группе легендарный характер, словно она сподобилась сакрального местожительства и передала оттуда благую весть.
Новое время напрочь похерило этот святой монастырь, отобрав у сторожек с котельными все их былое значение. Рухнула прежняя, с подморозкою против гниения, жизнь, схоронив под завалами разноречивую память, народилась взамен удивительная броуновская суета — свободная, откровенная и жестокая, подполье и партизанское коловращенье души выглядят анахроничнее лошади в мотострелковом полку, кто поумней, давно продал рукопись объединенным славистам Германии, строчит — о, позор! — для московской газеты или зимует иждивением толстожурнального глянца, все митьки зашились и выползли, чтоб напоследок отмычаться на палубе, а не в трюме, и только самые стойкие дети подземелья, не умея существовать на поверхности, поневоле в андеграунде и остались — оттуда глядят сквозь да поверх и возносятся к эпицентру победы, не наскребая рублей ни на одежду, ни даже на стрижку. О них и сложена эта надгробная песнь. Постфактум, постмортем, изнутри нового опыта.
Наверху их подземные тайны, став общим местом интеллигентного разговора, пошли оптом и в розницу, да и те вскоре никто не возьмет, вдоволь ими насытившись. Короче, полное поражение — впервые за долгие годы из непреклонного подвального принципа улетучились смысл и сознание избранности. Это сознание как никогда ясно видит перед собою несчастье и уже догадалось, что смотрится в свое отражение. Раньше оно понимало, кому и во имя чего приносить гордые жертвы. Сегодня разрушены все привычные окропленные алтари, а жовиальные служители теперешних культов падают в обморок от катакомбных кровавых самопожертвований и считают их варварским неприличием, безмозглым рудиментом угасшей эпохи, даже если сами успели весело выпить и покурить под землей. (Где еще, как не в скобках, заметить: они правы в том, что потаенно-подвальная, близ котла и манометра, идеология жертвенности более не проходит. Но они глубоко заблуждаются, если думают, что Перекоп можно взять на экране компьютера, без реальных жестоких потерь, и что в мире уже нет Перекопа. Сколько ни издевайся над поэтикой несимулятивного штурма, сколько ни отменяй ее постмодерным александризмом и наркоомутами Интернета, Врангель не уйдет из Крыма до тех пор, пока его армия не будет задушена превосходящим натиском трупов. А если вам нравится другая, безопасная философия и столь же ласково бреющее и подтаскивающее искусство, то вы можете их закупить по договорной цене.)
Сообщество гордого отречения от Мамоны, безразлично, подпочвенное или наружное, сейчас в сущностном плане много хуже приходится ко двору, чем в эпоху Брежнева или Франциска Ассизского, собиравшего полевые цветочки для своей простоволосой подруги, сестры и невесты, возлюбленной Бедности. Вот почему оно должно быть сегодня совсем по-иному продумано и построено, чтобы сызнова сосредоточить в себе радикальную борьбу с гравитацией и подлинно великий Отказ, разрушительный, как созидание небывалого. На этом пути открывается поприще, исполненное пафоса, агрессии и обольщения, такое же опасное, эротизирующее и притягательное, какой может быть лишь неподдельная новая этика, а значит, и социальная магия. Традиционная же, по старинке воспринятая босоного-духовная участь — действительно на исходе, ее сроки иссякли, и едва ли ей суждено воскресение в тени зиккуратов послеимперского Вавилона.
Понимая, что с ними произошло, моги поодиночке и группами направляют свой танцующий шаг к загодя припасенному избавлению: «В какой-то момент становится ясно, что танец необратим», и миг, «когда можно было уйти живыми, упущен».
28. 11. 96ПЛАЧУЩИЕ ДЕМОНЫ
Все никак не поспеет зима, лишняя деталь климата выпала за ненадобностью и к повествовательной выгоде — удобно откупорить заметку петляющей бестолочью, изобразив, как на стыке теплого декабря-января сидели в настежь распахнутой забегаловке с тель-авивским поэтом Наумом Вайманом, он при пиве, я ноздрями в апельсиновом соке (кому бы отрекламировать этот продукт за скромную мзду на манер двуязычного классика-педофила: от одной, дескать, утренней порции исчезают дневные невзгоды). Тема застольного трепа, из которой торчал обласканный европейским сообществом фильм Ларса фон Триера «Рассекая волны», на этот раз в нас обоих запала. Пересказывая содержанье картины, Вайман сердился, что заявленные в ней и лично ему чрезвычайно дорогие мотивы искупительной жертвы, преодоления греха страданием, святости, чуда и того безоглядного простодушия мужества, которое расталкивает реальность, заставляя ее стать иной, были для большей доходчивости опрокинуты в заведомую экранную пошлость и профанированы до понимания средневерхних буржуазных слоев, в нашем случае — тель-авивского культурполитического бомонда, обрыдавшего платочки на локальной премьере в «Синематеке». На мой взгляд, однако, все это уже не предмет мало-мальски серьезного разговора. Дистанция, отделяющая сегодня якобы неудачное искусство от так называемого хорошего и, в особенности, замечательного, неизмеримо — настолько, что ею можно и пренебречь, — ничтожнее расстояния меж бесцельным современным шедевром и тем безнадежно утраченным онтологическим статусом, которым искусство обладало когда-то, но напрочь лишилось теперь. О смерти художества нынче только покойник не скажет… С другой стороны, возведенная в степень истории, погребальная нота не кажется вовсе банальной, ибо гибель этого рода случалась не раз — так, например, ухнуло монастырское книгописание, самозаконная цивилизация летописных сводов, заставок и буквиц. Все же вопрос должен быть поставлен иначе, на другое ребро. Искусство не улетучилось, но ничего больше не значит, и в подтверждение этого персонального тезиса выложу два аргумента.
Первый звучит следующим образом: никогда не было так много искусства и никогда оно не было столь бесповоротно отрешено от абсолютного духа и мирового события. Корень зла видится в том, что художественное творчество последних десятилетий совершенно не отвечает грандиозному характеру происходящего в мире: немощный карлик, оно умещается в отпечатке ступни великана и, естественно, отказалось от мысли поспеть за его шагом. Наиболее проницательные наблюдатели предрекали это давно. Сейчас уже ясно, что фразу о невозможности поэзии после концлагеря надлежит истолковать не как сентиментальную констатацию невместимости новаторского трагизма в привычную лирику с ее традиционно расчисленным спектром эмоций, но как арифметически проверяемое свидетельство фатального несоответствия двух масштабов: стихотворного (и в целом — художественного) и исторически-событийного. По всей вероятности, искусство не заслуживает обвинений в свой адрес — импотент не может быть Казановой, как ты ни соблазняй его дивными наслаждениями. В том виде, в каком артистизм сложился на сегодняшний день, он не способен ответить на безудержный вызов мира с его непрерывными войнами, национальной жестоковыйностью, добровольной демографической гекатомбой навыворот во исполненье мрачнейших мальтузианских пророчеств, массовым ожиданием конца света, всевластием электронных коммуникаций и всей бездной алчности, напора и пугающего, любовью порожденного бескорыстия. Сомневаюсь, что хоть какой-нибудь художественный акт может сравниться по своей силе и резонансу с нервно-паралитическим буддизмом в токийском метро, с этим прощальным «Аум» над страною и миром, а тем временем старый актер Билли Грэхем продолжает уловлять стадионы, и стоит ему под занавес проповеди объявить всенародное покаяние, как десять тысяч спелыми гроздьями падают со скамей. Искусству давно уже недоступна такая акустика, и потому оно скользит мимо жизни и мимо смерти, безвольно растворяясь в общем смесительном лоне. Можно сказать, что оно — не война, не газовая религия, не сумасшедшее братство самоубийц, не что угодно другое. В таком случае пусть не сегодня, но в конечном итоге ему придется стать войною, религией, сумасшедшим братством, чем угодно другим, коль скоро оно снова желает соприкоснуться с реальностью, с тканями мира.