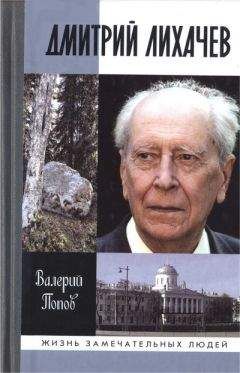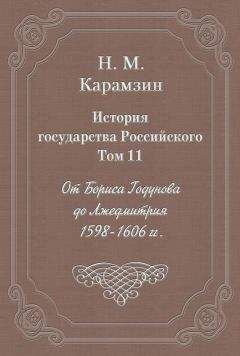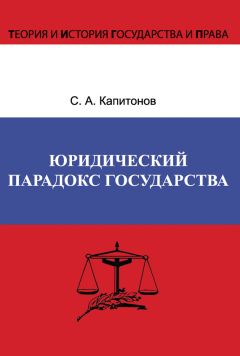Дмитрий Лихачев - Раздумья
И в каждое из этих судьбоносных для страны исторических событий входит и личная, лирическая судьба женщины: то это честолюбивая, но вовсе не сильная Мария Мнишек, то простая и простенькая Параша, которая является читателю даже не сама, а лишь в мечтах и страхах своего жениха — маленького человека Евгения, то сильная духом и почти героическая, думающая только о любимом ею человеке Маша Гринева, то, наконец, Мария Кочубей, трагическая в своей любви к старому и эгоистическому и по-своему ничтожному гетману Мазепе. Каждая из этих женщин решает свою судьбу и только в одном случае решает удачно — это Маша Гринева, ибо полюбила она не честолюбца.
Напрашивается связь судьбы этих женщин с судьбами Татьяны Лариной, тоже полюбившей занятого собой Онегина, Лизы в «Пиковой даме», полюбившей азартного игрока Германца. В «Онегине» и в «Пиковой даме» столкновение личной судьбы женщины происходит не с историческими событиями, но с жестоким укладом общества.
Мужчины у Пушкина по большей части не способны полюбить до полной самоотдачи. Их сфера другая. Женщины же, даже тогда, когда связывают судьбу свою с недостойными их людьми, полны самопожертвования. Именно поэтому несчастная судьба женщин так близка Пушкину, так тревожит его, и именно они становятся в его глазах первыми и главными жертвами неукротимого хода истории.
Ни одно из больших произведений Пушкина не разрешает, как мы уже сказали, до конца волновавшую его тему. Судьба частного человека в истории и обществе оборачивается все новыми и новыми сторонами в произведениях Пушкина. Тема эта и не могла быть разрешена однозначно. Для этого слишком разнообразны сами люди. Так неразрешимой, но беспрерывно разрешаемой заново, огромная тема эта перешла и во всю последующую русскую литературу.
Тема «Евгения Онегина» разрешалась Тургеневым и Гончаровым в их «усадебных» романах, тема «Пиковой дамы» — у Достоевского в «Преступлении и наказании» и в «Игроке», тема «Медного всадника» — в «Петербурге» Андрея Белого. Вскользь сказано в «Полтаве» о пути Наполеона на Москву: Пушкин как бы предугадал и наметил даже тему будущего романа Льва Толстого «Война и мир», где любимая всеми читателями Наташа, ввергнутая, как и героини произведений Пушкина, в водоворот грандиозных исторических событий, явилась наследницей женских образов поэта.
Думы Пушкина не умерли вместе с ним. Они прошли длинной чередой по всей великой русской литературе, которую не случайно назвали «Домом Пушкина».
Крупнейшие советские украинские поэты Максим Рыльский и Андрей Малышко перевели «Полтаву» на украинский язык. Это нелегко было сделать. Поэма Пушкина — двуедина в своей стилистической основе. Линия Марии выдержана в духе романтической поэмы, линия Петра и Полтавы — в лучших традициях классицизма. Такая двуединая линия характерна и для других произведений Пушкина — например, для «Медного всадника». Реализм — открытый стиль. Он позволяет включать в себя течения других литературных направлений, если этого требует сюжет, тема, идея. Такие переходы создают трудности для переводчика, но с ними блестяще справились Рыльский и Малышко. Сравнение подлинника с переводом, мощи русского языка с красотой и мягкостью украинского поможет читателю испытать дополнительные эстетические эмоции и глубже понять гениальную поэму Пушкина.
ИЗ КОММЕНТАРИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ А. БЛОКА «НОЧЬ, УЛИЦА. ФОНАРЬ, АПТЕКА…»С осени 1921 по весну 1922 года в школе Лентовской, где я учился, литературный кружок вел небезызвестный в биографии Александра Блока Евгений Павлович Иванов[1]. Иванов жил на Петроградской стороне недалеко от Большого проспекта. По моим воспоминаниям, он работал тогда не то бухгалтером, не то счетоводом, и школьный кружок после смерти Блока был для него своего рода интеллектуальной отдушиной. Пригласил его вести этот кружок замечательный педагог этой школы Леонид Владимирович Георг. По существу он и вел всю организационную работу, так как организатор Иванов был никудышный. Но он постоянно выступал и делал на кружке доклады. Один доклад я помню по названию — «Море и Евангелие от Марка», читал он его как стихотворение в прозе, но понять его мы, школьники, не были в состоянии: нас только завораживало звучание речи Е. П. Иванова. На занятия кружка ходили все педагоги школы, а кроме того, — и «посторонние» литературоведы А. А. Гизетти, С. А. Алексеев (Аскольдов) и др.
После занятий кружка я обычно провожал Евгения Павловича домой. Однажды я почему-то провожал его на Крестовский остров. Мы шли по Большой Зелениной, где на углу Геслеровского он показал мне чайную, которую посещал Блок, с кораблями на обоях, и которая изображена Блоком в первом действии «Незнакомки». (Как раз в эту чайную упала одна из первых бомб во время осады Ленинграда в конце августа или начале сентября 1941 года.) А дальше, перед деревянным мостом на Крестовский остров, на котором происходит второе действие («Второе видение») «Незнакомки», на углу слева он показал мне аптеку и сказал, что Блок всегда конкретен в своей поэзии (то же обычно повторял и двоюродный брат А. А. Блока — Г. П. Блок) и в стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека…» имел в виду именно эту аптеку. Блок любил здесь гулять, любил Петроградскую сторону вообще, даже после того как поселился на Офицерской.
Требуются некоторые пояснения. Стихотворение входит в цикл «Пляски смерти». Мост на Крестовский остров был по ночам особенно пустынен, не охранялся городовыми. Может быть, поэтому он всегда притягивал к себе самоубийц. До революции первая помощь при несчастных случаях оказывалась обычно в аптеках. В аптеке на углу Большой Зелениной и набережной (ныне набережной Адмирала Лазарева, дом № 44) часто оказывалась помощь покушавшимся на самоубийство. Это была мрачная, захолустная аптека. Знаком аптеки служили большие вазы с цветными жидкостями (красной, зеленой, синей и желтой), позади которых в темную пору суток зажигались керосиновые лампы, чтобы можно было легче найти аптеку. (Золотой крендель был знаком булочной, золотая голова быка — мясной, большие очки с синими стеклами — оптической мастерской и пр.) Берег, на котором стояла аптека, был в те времена низким (сейчас былой деревянный мост заменен на железобетонный, подъезд к нему поднят, и окна бывшей аптеки наполовину ушли в землю; аптеки теперь нет). Цветные огни аптеки и стоявший у въезда на мост керосиновый фонарь отражались в воде Малой Невки. «Аптека самоубийц» имела опрокинутое отражение в воде; низкий берег без гранитной набережной как бы разрезал двойное тело аптеки: реальное и опрокинутое в воде, «смертное». Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека…» состоит из двух четверостиший. Второе четверостишие (отраженно-симметричное к первому) начинается словом «умрешь». Если первое четверостишие, относящееся к жизни, начинается словами «Ночь, улица, фонарь, аптека», то второе, говорящее о том, что после смерти «повторится всё, как встарь», заканчивается словами, как бы выворачивающими наизнанку начало первого: «Аптека, улица, фонарь». В этом стихотворении содержание его удивительным образом слито с его построением. Изображено отражение в опрокинутом виде улицы, фонаря, аптеки. Это отражение отражено (я намеренно повторяю однокоренные слова — «отражение отражено») в построении стихотворения, а тема смерти оказывается бессмысленным обратным отражением прожитой жизни: «Исхода нет». Посмертная жизнь как опрокинутое и карикатурное повторение жизни — обычный для фольклора мотив. Он ярко представлен, например, в древнерусской повести о бражнике, стучащемся на том свете в рай и переспоривающем всех праведников, или в поэме А. Т. Твардовского «Теркин на том свете». Всё — то же, но ненастоящее, отраженное, лишенное подлинного содержания и смысла.
В стихотворении Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…» поразительно совпадение его построения, композиции с содержанием. Даже зрительно два четверостишия, отделенные друг от друга пробелом, производят впечатление как бы «самоиллюстрации» из содержания. Позволю себе полностью воспроизвести здесь это всем хорошо знакомое стихотворение:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет,
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь…
Два следующих стихотворения в цикле «Пляски смерти» также связаны с самоубийством, с водой, аптекой, фонарями:
Пустая улица. Один огонь в окне.
Еврей-аптекарь охает во сне,
А перед шкапом с надписью Venena[2]
Скелет.
Второе стихотворение:
Старый, старый сон. Из мрака
Фонари бегут — куда?
Там — лишь черная вода.
Там — забвенье навсегда…
Стихотворения эти также общеизвестны. Я не цитирую их полностью, но напомню, что, написанные в 1912 и 1914 годах, они возвращают нас к темам и картинам «Второго видения» «Незнакомки», написанной в 1906 году: «Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно[3], образуют широкую перспективу: темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями…»