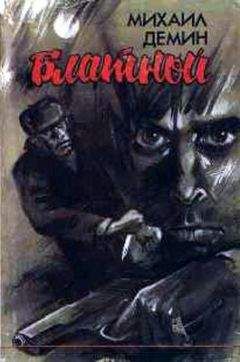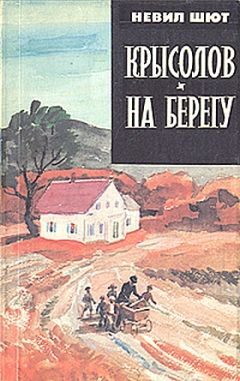Абдижамил Нурпеисов - Долг
— А ну их! Кто нынче не кончает эти самые ГУ и ПИ? А вот чтобы КулНСШ... да-а, туда, видно, не всякий сунется...
И в самом деле, по части деловых бумаг Сары-Шая считался непревзойденным. За составление разных прошений, заявлений, кассационных жалоб, встречных исков, актов он принимался охотно, в предвкушении любимого дела азартно засучив рукава. Глаза загорались знакомым кошачьим огнем, на кончике носа выступала испарина страсти — так бывало, когда Сары-Шая попивал, потягивал у огня душистый индийский чай, настоянный на гвоздике. Он тщательно, без помарок, выводил на белой бумаге аккуратненькие, кругленькие буковки и сам, отстраняясь, любовался ими: «Ну как, а?!», и проситель, и без того завороженный священнодействием Сары-Шаи, угодливо шептал: «О, аллах, поддержи нас, прояви к нам свою милость...»
Кто знает, правда или нет, люди поговаривают, что у Сары-Шаи железный сундук, куда он якобы прятал копии написанных им бумаг и при этом любил повторять: «Все это, братцы, история!» И еще говорят: ни одна отправленная им в высшие инстанции бумага не остается без ответа. Ибо строчить он будет до тех пор, пока не добьется своего, пока не доконает начальство, заваливая его ворохом всяких требующих, протестующих и обличающих бумаг. Да, крепко усвоил он нехитрый закон бумажной жизни.
* * *
— Слушай, сын мой...
А сын сидел в задумчивости, вертя в руках пиалу с давно остывшим чаем. Будто очнулся, оторвал взгляд от края пиалы, посмотрел туда, где сидела мать. Сначала увидел большой медный самовар, исходивший сухим домашним жаром, а потом уже рядом с самоваром в привычной позе — подобрав ногу и опустив на колено подбородок — маленькую иссохшую старушку.
— Слушаю, апа...
— Хоть ты и дитя мое, но нынче, дожив до дряхлости, я стала, как видишь, сама малым дитем, а ты — мой благодетель. Нет уже у старой твоей матери прежней прыти, чтобы поспевать за кочевьем молодых. И вот, пока я в здравом уме, надумала я, сынок, кое-что тебе сказать.
— Говори, апа...
— Чай, наверное, остыл. Подай свое кесе.
Передавая матери пиалу, он посмотрел на нее внимательно — и защемило вдруг сердце. Маленькая старушка неумолимо таяла и старела на его глазах, тускнея вместе с этим медным самоваром, некогда приобретенным отцом на конградском базаре в обмен на верблюжью шерсть. В прежние времена, бывало, после богатого улова ты всегда радостно и шумно врывался в дом и прежде всего бросался обнимать стоявшую в стороне мать. Она была женщиной сдержанной, скупой на ласку. Но опьяненный удачей сын понимал, что сердце матери тоже ликовало от бурной, по-мужски грубоватой ласки его, однако на глазах невестки она не одобряла излишне бурного проявления чувств со стороны мужчины. И потому, напустив на лицо строгость, она в таких случаях всегда оставалась неприступной, отталкивала сына от себя: «Ты что, ополоумел? А ну, отстань! Уймись!» Сын, продолжая дурачиться, похохатывая, незаметно совал в карман ее безрукавки червонец-другой. Нынче, запутавшись в своих нескончаемых делах, терзаясь сомнениями и тревогами, оказывается, он и эту кроху внимания перестал проявлять.
— Апа, на этот раз мы с удачей вернулись. Вот, тебе... — Он, смущаясь, протянул матери несколько скомканных бумажек.
— Зачем мне это? Отдай жене.
— Нет, апа, оставь себе. Пригодятся, может.
— Я и те, что ты в прошлом году дал, не трогала. Две красненькие да три синенькие, сколько будет?
У него отлегло на душе, и он громко и весело расхохотался, как и в прежнее безмятежное время, когда под этой крышей еще царили согласие, уют и лад. Но мать, не терпевшая легкомыслия ни в чем, сурово сдвинула брови, и ты тотчас замолк.
— Нынче многое уму нашему недоступно. Не понимаю: то ли чрево у нынешних баб не то? Не говоря уже о чужих детях, от своих собственных пошло-расплодилось непонятное нам племя. До чего дожили: даже разговариваем с ними на разных языках.
Вроде он знал свою мать. Она не любила жаловаться. «Неужели кто из детей невзначай обидел?..» — с неосознанной тревогой подумал.
— То, что в наше время делал человек, теперь, в ваше время, делает железная машина. Ездите нынче на железе. Летаете на железе. Даже в доме все железное. Да что там... вон, тот ваш неумолчный говорун, что и в доме, и вне дома всякие сплетни со всех концов света вбивает в вашу башку, — и тот железный. Замечаю я, что вы, черти, и все тайные думки-то свои не бабам, как прежде, в постели доверяете, а опять-таки железке. Коли вы поклоняетесь железу и зависите кругом от железа, где уж там сыскать место для человеческого милосердия? А когда всю душу и тело сковали железом, горе тому, кто обделен железным норовом...
Старая мать оценивающе глянула на сына и усмехнулась. Намек был достаточно ясен, он понял родительскую горечь; когда бывают недовольны родным чадом? Но почему тогда она не говорит об этом прямо? Это ведь не в ее характере. Не раз сын видел, как она в те послевоенные годы, молодая еще, сверкая большими черными глазами, зычным голосом резко и прямо отчитывала кого угодно. Да-а, сдала бедная мать. Вон про железный век упомянула, на людское бездушие посетовала. И уже по тому, как в кои-то времена пожаловалась она на сухосердечное нынешнее поколение, было видно, что в его отсутствие все же кто-то в семье обидел старую мать. Но кто? Теща? Дочка? Или Бакнзат?
— Апа, не скрывай... Говори, ради бога, кто... кто посмел тебя тронуть? — Сын даже дернулся помимо воли, привставая с места, словно тот неведомый обидчик матери стоял тут перед ним.
— Ладно, сядь!
— Ну, сел. Но ты все-таки должна сказать, кто тебя...
— Глупый, кто посмеет в этом доме обидеть меня? Жена твоя? Или теща? — Старуха хмыкнула. Выпрямилась, вскинув голову в высоком белом жаулыке. — Пока жива, сама как-нибудь за себя постою. И кто меня, кроме самого всевышнего, может обидеть? А если и обидит, то тебе все равно не пожалуюсь. Моя речь о другом.
— Слушаю, апа...
— Сын мой, негоже, когда мужчину заботы об очаге по рукам-ногам связывают. И потому боюсь, как бы святая привязанность твоя к отчему краю, к родной земле, где пуп твой был резан, не привела к тому, что останешься ты когда-нибудь один-одинешенек у покинутого кочевья сторожить могилы предков.
— О чем ты, апа? Ведь еще вчера мне твердила про отчий край, про...
— Верно. Говорила. Все мерещилось, что стоит нам только покинуть родной край, как бренные останки наши останутся непогребенными. Что ж, верно... без родимой сторонушки человек — тлен. Кто из нас даже при виде какой-нибудь безымянной могилы обитавшего здесь некогда предка не чувствовал себя как в надежном обжитом доме? Это было утешением старой души. Но все на свете, оказывается, имеет смысл и значение лишь в счастье. А если его нет... Поверь: в этом краю уже ничто не прельщает меня.
Не зная еще, как отнестись к услышанному, ты сидел в тяжелом раздумье. Выходит, счастье, богатство и благоденствие отчего края всецело зависело лишь от благополучия синего моря, привычно шумевшего под боком? И теперь, когда оно неотвратимо высыхает на глазах, ничто другое уже не может удержать нас на этой скудеющей земле?
— Да, дорогой, не зря в старину горе рода каждый считал своим личным горем. Сказано же: «С родом своим и яд прими...» — Мать долго и пристально смотрела на сына, как бы желая убедиться в воздействии своих слов. — Раз уж твой род стронулся с места, утратив привязанность к отчему краю, и тебе не следует отсиживаться в сторонке. Будь вместе с теми, с кем ты в доброе время бороздил наше море. И не чурайся чужой земли. Не чужая она. Та же благословенная земля казахов, щедро политая кровью и потом таких же, как вы, сынов, единокровных братьев наших, — упокой их в своих садах, аллах. Так же освящена она добрыми духами-заступниками нашими. Поживи малость на новой земле, походи по ней, потрудись как следует, потом своим окропи — и если только не очерствело, не ссохлось, как комок глины, твое сердце, то скоро и к ней привыкнешь, душа, как ивовая веточка на отмели, мигом корешки в нее пустит, и станет она для тебя и для детей твоих такой же милой и дорогой, обетованной, как и земля отцов. Наш кочевой народ, который с седлом до смерти не расставался, всегда умел найти себе пристанище, на много лет вперед умел обеспечить пастбищами и стойбищами и себя, и потомков своих. Найдете же и вы, не худого рода племени, а переезжать сейчас проще простого. И куда бы ни переехал, не оставляй свою старую мать. Вот и все. Других желаний у меня нет.
Сын понял: все, что сейчас так прямодушно высказала мать, плод ее долгих раздумий, к этому решению, должно быть, она пришла не сразу; раздумывала со старческой обстоятельностью, взвешивая все до мелочей, и так, и эдак примериваясь, — когда сноха с дочкой уходили в школу, а она оставалась во всем доме одна, пряла у окна на солнышке, и когда возилась на кухоньке, и когда, пристроившись сбоку к бурой верблюдице, подолгу выдаивала ее.
— Не только приморье оскудело, даже пастбища в степи — и те нынче солончаками покрылись. Ездила я как-то в аул верблюжатников, по дороге сама видела: еще июнь, а колодцы уже повысыхали, изъеденные солончаком травы повыгорели до черноты. Божья кара за наши прегрешения, не иначе.