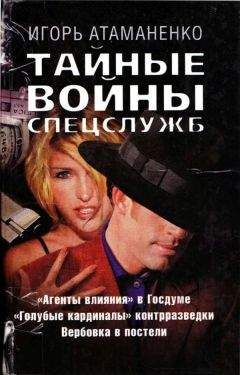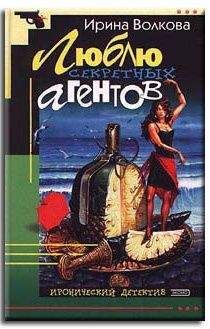В. Зебальд - Естественная история разрушения
Лмери, не раз ставивший под сомнение собственную храбрость, на протяжении пятнадцати последних лет жизни вел в словесном разбирательстве со своим страшным прошлым героические – как стало ясно задним числом – арьергардные бои. И в итоге пришел к выводу, что «дискурс о добровольной смерти начинается там, где кончается психология»[233] и не соотносится ни с чем, кроме «чистого отрицания» и «треклятой непредставимости»[234]. Этот дискурс Лмери трактовал как последнюю фазу затяжного «сгибания, приближения к земле, суммирования огромного количества унижений, какие человеческое достоинство самоубийцы не приемлет»[235]. Безусловно, автор трактата о добровольной смерти подписался бы под тезисом своего духовного сородича Чорана, что жить дальше возможно лишь «par les déficiences de notre imagination et de notre mémoire»[236][237]. Не вызывает большого удивления, что и он сам, мучительно вспоминая случившееся, подошел к точке, когда у него возникла мысль, что можно – без насилия – положить конец жизни и порукой тому «простой кинжал», как он замечает, цитируя Шекспира.
Однако желание смерти, этот символ acedia cordis, то бишь душевного безразличия, никогда не было для Амери поводом смириться. Скорее оно побуждало его продолжать протест. Вышедший в 1974 году роман-эссе «Лефё, или Разрыв» являет собой поистине упрямый текст. Центральная фигура полувымышленного, полуавтобиографического повествования – художник, более не желающий или не способный приспосабливаться, un raté, неудачник, порывающий со своим окружением. Этот человек, по фамилии Лефё, сиречь «огонь», в годы так называемого Третьего рейха был депортирован в Германию на принудительные работы и стал очевидцем того, как человечество, шагнув в распахнутый Гитлером люк, «рухнуло в пустоту самоотрицания»[238]. Подобно Майеру-Амери, Лефё выжил, но и только. Выживание означает для Лефё обреченность на призрачное существование, поскольку в подлинном своем облике он по-прежнему обитает в городе мертвых. Примо Леви, некоторое время находившийся в Аушвице вместе с Амери, вполне конкретно описал этот город: Буна – так назывался вавилонский конгломерат, где наряду с немецкими управленцами и техниками трудились сорок тысяч рабочих, собранных из окрестных лагерей и говоривших на двадцати с лишним языках. Посредине города как его символ высилась построенная рабами карбидная башня, верхушку которой почти всегда заволакивала мгла[239]. Находясь в этом городе, где, как нам теперь известно, не было произведено ни фунта синтетического каучука, мы попадаем, если допустимо прибегнуть к метафоре, в тот круг Дантова ада, где странник «увидел стяг вдали, / Бежавший кругом, словно злая сила / Гнала его в крутящейся пыли; / Л вслед за ним столь длинная спешила / Чреда людей, что верилось с трудом, / Ужели смерть столь многих истребила»[240]. Удивление явленной власти смерти – вот что роднит аватара Лмери с Дантовым странником. Лефё – фигура аллегорическая: огнеборец и поджигатель. Его опыт простирается далеко за пределы жизни. Он, поджигатель, сидит на лесной опушке, смотрит сквозь ночь вниз, на город. И при этом представляет себе артефакт под названием «Paris brûle»[241], сотворение огненного моря. Здесь возникает проблема избавления посредством осуществления контрнасилия, о которой Амери, под влиянием Фанона, неоднократно размышлял. Амери спрашивал себя, как же получилось, что он, участник Сопротивления, едва не поплатившийся жизнью за изготовление и распространение нелегальной агитационной литературы, «так и не сумел полностью примириться с тем, что не боролся против угнетателя с оружием в руках»[242]. Отказ от насилия, невозможность найти путь к насилию даже ввиду экстремальной угрозы – вот один из центров терзаний Амери. Потому-то он на пробу отождествляет себя с пироманом, который носит в голове пылающий ярким пламенем город. Огонь, образцовое орудие карающей божественной силы, в конечном счете есть подлинная страсть поджигателя, приверженного здесь революционной фантазии, да, он – Лефё и, подобно ему, пожирает себя.
Сокрушенность сердца
О воспоминании и жестокости в творчестве Петера Вайса
L'homme a des endroits
de son pauvre coeur
gui n'existent pas encore
et où la douleur entre
afin qu'ils soient[243].
Леон БлуаКартина «Разносчик», созданная Петером Вайсом в 1940 году, изображает поднимающийся на среднем плане унылый промышленный ландшафт, на фоне которого примостился маленький цирк, придающий всей обстановке своеобразно аллегорический характер. На самом переднем плане, вполоборота к зрителю, как бы бросая прощальный взгляд назад, стоит молодой парень с лотком на животе и посохом в руке; наверно, он уже проделал долгий путь, а сейчас явно намерен двинуться вниз по крутой дороге к шатру, вход в который маркирует одновременно самое светлое и самое темное место картины. Белая поверхность брезента, освещенная закатным солнцем, окаймляет царящую внутри кромешную тьму, черное пространство, куда, кажется, неумолимо влечет бесприютную фигуру, что стоит здесь у начала своей дороги. Потребность зайти туда, где обитают те, кто уже не на свету и не в жизни, находит в этом автопортрете выражение, безусловно направленное на собственный конец. И впоследствии Вайс с упорством на грани мономании хранил верность набросанной здесь программе. Все его творчество – визит к умершим, в первую очередь к собственным близким: к слишком рано погибшей от несчастного случая сестре, которая не выходит у него из головы; к другу юности Ули, труп которого в 1940-м прибило к датскому берегу; к родителям, с которыми он не в силах окончательно расстаться, и наконец ко всем прочим обратившимся в прах и пепел жертвам истории. В пространной прозаической рапсодии, которую Вайс заносит в записную книжку в сентябре 1970 года, речь идет о предписанной ему встрече с умершими, о солидарности также и с теми, кто уже «сверхотчетливо несет в себе смерть и находится на пути к челну перевозчика, к Ахерону, уже слышит плеск весел и зов Харона»[244]. Процесс писательства, как Вайс трактует его здесь, в преддверии работы над «Эстетикой сопротивления», – это ведомая посредством перевода памяти в письмена непрестанная борьба против «искусства забвения»[245], столь же неотделимого от жизни, сколь печаль – от смерти. Писательство есть попытка наперекор «уверткам» и «приступам слабости» «балансировать меж живых, вместе со всеми умершими в нас, вместе с нашей скорбью, с собственной смертью перед глазами», чтобы задействовать память, ведь она одна оправдывает выживание в тени горы виновности. Но куда ярче любых других современных произведений творчество Петера Вайса свидетельствует, что по сравнению с соблазнами амнезии абстрактная память об умерших мало на что способна, коль скоро она в исследовании и реконструкции конкретного часа пытки не выказывает сострадания, выходящего за пределы простого сочувствия. В такой реконструкции взявший на себя обязательство вспоминать художественный субъект, как его трактует Вайс, не в последнюю очередь предпринимает и оперативные вмешательства в собственную личность, которые своей болезненностью в известной мере гарантируют продолжение воспоминания. Поэтому уже картины, которые Вайс пишет в первые годы эмиграции, руководствуясь нравственным импульсом, а не какой бы то ни было эстетической экстравагантностью, изобилуют изображениями чудовищнейших преступлений, что порой выливается в сценарии всеобъемлющей гибели цивилизации, сведенной варварством к пустому звуку. «Великий мировой театр» (1937), напоминая своей совершенно патологической хроматикой и выходящей в космос диспозицией «Победу Александра Македонского над Дарием» (1529) Альтдорфера, демонстрирует сущий пандемониум трансгрессии на фоне, декорированном тонущими кораблями и высвеченном заревом пожаров. Впрочем, идея катастрофы, которую Вайс развивает в подобных панорамах, не раскрывает эсхатологической перспективы, скорее, она знаменует разрушение, перешедшее в состояние перманентности. То, что обнаруживается здесь и сейчас, есть уже нижний мир, по ту сторону всякой природы, составленная из промышленных сооружений и машин, заводских труб, силосных башен, виадуков, глухих стен, лабиринтов, безлистных деревьев и дешевых ярмарочных аттракционов сюрреалистическая местность, где протагонисты ведут уже почти неживое существование как сугубо аутические души, лишенные истории. Фигуры написанного в 1938-м «Концерта в саду» с их опущенными веками, молодой чембалист с невидящим взглядом относятся к числу предвестников жизни, еще шевелящейся в ощущении боли, предвестников безоговорочной идентификации с презираемыми, осмеянными, искалеченными, тонущими в мечтаниях, с теми, что в слезах сидят по укрытиям, что от всего отказались и ничего после себя не оставили[246]. Неизбывная печаль, которая в третьем томе «Эстетики сопротивления» охватывает мать рассказчика, когда, скитаясь по восточным провинциям так называемого рейха, она невольно примеряет на себя судьбу тех, кто, «лишенный всяких притязаний, всякого достоинства, влачит существование в мире, состоящем из одних только погрузочных платформ, транспортных линий, перевалочных пунктов и пересыльных лагерей»[247], это абсолютно безмолвное уныние, в котором мать, как отмечает рассказчик, безвозвратно «удаляется от всего, чем мы себя окружили»[248] и ни единым звуком не выказывает замешательства, провоцирует у пишущего сына вопрос, уж не ведомо ли ей, женщине, потерявшей рассудок в Освенциме, «больше, чем нам, сохранившим рассудок» и, как написано в записных книжках, «не честнее ли молчание, отречение, нежели стремление всю жизнь создавать мемориал себе самому»[249]. Обрисованные таким образом сомнения перед лицом глубочайшей потрясенности заметны уже в автопортретах гнетущих времен эмиграции. На гуаши 1946 года предстает лицо, омраченное тяжкой меланхолией, тогда как в созданном примерно тогда же, выдержанном в холодных голубых тонах портрете преобладает сосредоточенная, прямо-таки невероятная интеллектуальная жизнестойкость. Испытующий взгляд, нацеленный на обнаружение правды и справедливости, неотрывно устремлен с картины на то, что должно заметить. Однако оба портрета роднит манера, в какой художник трактует собственное лицо – не столько соблюдая реалистическую верность деталям, сколько как плоскостное изображение, которому присуща определенная тяга к монументальному героизму, характерному для позднего литературного творчества Петера Вайса. В превращении травмированного субъекта в другую, непоколебимую личность, с одной стороны, утверждает себя воля к сопротивлению, с другой же – происходит что-то, что можно описать как уподобление бездушной системе, которая, как известно субъекту, грозит ему опасностью. Боязнь быть изрезанным и искалеченным преобразуется таким образом в генеративный элемент стратегии, посредством которой сам Вайс продолжает делать исследовательские надрезы на воплощенных инстанциях гнетущей реальности. Тема анатомии, которая занимает его в ту пору и будет занимать позднее, являет собой один из содержательных элементов, позволяющих наглядно продемонстрировать во многом проблематичный процесс перевода, о котором здесь идет речь.